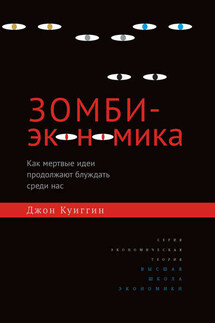Невидимые руки, опыт России и общественная наука. Способы объяснения системного провала - страница 3
В тот момент, когда это издание отправляется в печать, русские экономисты поголовно приближаются к консенсусу о том, что стратегия роста на основе природных ресурсов себя исчерпала, и стране нужна новая модель роста. О необходимости фундаментальной диверсификации российской экономики постоянно твердят внешние наблюдатели и организации, и все больше россиян начинают соглашаться с этим. Однако мало кто готов подробно объяснить, что именно это значит и что именно надо делать.
О достоинствах диверсификации по сравнению с ростом на основе природных ресурсов можно говорить с технической точки зрения сравнительного преимущества. Однако к проблеме причин пандемической коррупции и в целом отвратительного инвестиционного климата нельзя подойти, не учитывая роли неформальных институтов. Это вновь возвращает нас к разнице между революцией и эволюцией, к пониманию того, что границы и результаты вмешательств на основе деятельностного подхода будут ограничиваться неформальными институтами, роли и происхождение которых остаются неясными, если не сказать покрытыми тайной.
Системный провал европейской интеграции и российского перехода к рыночной экономике с этой точки зрения можно рассматривать и как системный провал общественной науки. Рост специализации и сложности теорий обернулся худшим пониманием контекста и сниженной чуткостью к критически важной роли специфики каждой страны – к тому культурному и историческому наследию, которые заставляют разные страны так по-разному реагировать на одинаковые внешние потрясения и/или вмешательства. В результате этого размена мы наблюдаем близорукость и неважные политические рекомендации.
Эта книга не ставит целью ни найти решения сегодняшних кризисов, ни даже ответить на вопросы о релевантности теории. Ее скромная задача – предложить читателю пищу для размышлений. Рассматривая сегодняшние кризисы в контексте эволюции теорий социальной науки, начиная с европейского Просвещения, книга призывает ученых расширять горизонты и выходить за узкие рамки отдельных научных дисциплин. Возможно, в какой-то небольшой степени это поможет и той дискуссии о возможных путях развития, которая ведется сейчас в России.
Автору остается только выразить благодарность Владимиру Автономову за его дружбу и помощь при переводе книги на русский язык и надеяться, что потенциальные рецензенты, обнаружив в книге неизбежные недостатки и огрехи, проявят milost.
Предисловие
Иногда планы проваливаются, а предпринятые действия приводят к непредвиденным последствиям. В этом нет ничего примечательного. Все, что пошло не по плану, обычно исправляется само собой, а непредвиденные последствия, как правило, можно компенсировать дополнительными действиями. Идея этой книги выросла из осознания того, как важны для общественных наук случаи, в которых этого не происходит, то есть случаи настолько запущенные, что системные механизмы самокоррекции с ними не справляются, и аналитические модели социальной науки оказываются бесполезными.
Основная идея книги заключается в том, что такие выдающиеся случаи системного провала представляют собой последовательность неких событий, соединенных причинно-следственными связями, и, чтобы понять эти связи, необходимо учесть множество факторов, которые в полном объеме больше не может охватить ни один из узкоспециализированных подразделов современной общественной науки. Причины этого просты и связаны с компромиссом: постоянно усложняя теорию, мы вынуждены поступиться широтой подхода, а также восприимчивостью к неоднозначной роли культурно-исторической специфики. Когда мы рассматриваем рутинные незначительные изменения, преимущества подобного подхода перевешивают его издержки. Однако в случае крупномасштабных общественных трансформаций, которые заканчиваются системным провалом, мы сталкиваемся с проблемой: теоретическая сложность науки вселила в ученых чрезмерную уверенность в непогрешимость ее предсказаний, а также в способность политических мер достигать намеченных целей.