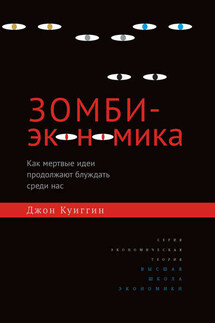Невидимые руки, опыт России и общественная наука. Способы объяснения системного провала - страница 9
Вторая из наших трех тем связана с историческим опытом России, который используется в книге как богатый источник иллюстративного материала. Этот выбор обусловлен четырьмя причинами. Во-первых, в России существует давняя традиция антирыночного управления, это позволяет показать, что может произойти на уровне действий индивида, когда правительство запрещает населению свободно заключать договорные контракты на горизонтальном уровне. Во-вторых, в России есть такая же давняя традиция внедрения изменений сверху при пассивном участии населения или при его полном отсутствии, что демонстрирует ограниченность деятельностного подхода к политическому вмешательству. В-третьих, в истории России было несколько случаев и государственного кризиса (в 1598, 1917 и 1991 гг.), и кризиса финансового рынка (в 1998 г.), что может поспособствовать нашему пониманию причин системного провала. Четвертая, последняя причина использовать опыт России связана с тем, что ее глубокие исторические корни, уходящие в XV в. и еще дальше в прошлое, могут пролить свет на теорию зависимости от пути.
Наша третья основная тема связана с ролью общественных наук и создаваемых ими теорий. Она является главной в книге, и ее задача в том, чтобы соединить уроки, вынесенные из первых двух тем, для достижения общего понимания тех причин, которые приводят к системному провалу, и выводов о том, как следует трактовать эти причины. Главная сложность заключается в понимании мотивов действий, которые на уровне индивидов можно рассматривать как выбор между работой и уклонением от нее либо как выбор между созданием добавленной ценности и чисто распределительной деятельностью. На уровне государства различие между поиском ренты и предоставлением ренты может послужить иллюстрацией того, как оказание отдельным людям преференций укореняется в отношениях, построенных на личных связях, что приводит к негативному воздействию на управление.
В общих чертах можно признать, что такие понятия, как homo economicus, homo politicus, homo sociologicus и даже homo sovieticus, служат удобными условными обозначениями для наборов базовых предпосылок, определяющих подходы разных общественных наук. Вспомнив, что было сказано выше о невидимых руках, мы можем сформулировать две теоретические проблемы. Одна из них заключается в том, что эти наборы базовых предпосылок фундаментально отличаются друг от друга в вопросах, связанных с действиями индивида. Как надо моделировать деятельность: как инструментально рациональную и дальновидную или же как результат того, что бездумные индивиды находятся в плену у прошлого и не имеют почти никакой свободы для совершения взвешенного выбора? Другая проблема связана с выделением тех компонентов институционального контекста трансакций, которые определяют, что выберет индивид: соблюдение правил или уклонение от них. При каких условиях выбор в пользу уклонения становится настолько распространенным, что наступает системный провал?
Мы начнем с вводного tour d'horison[1]: обсудим глобальный финансовый кризис в контексте дискуссии о кризисах капитализма, а также предшествовавшую кризису русскую гипердепрессию, которая иллюстрирует, что может произойти, если внезапно освободить рынки. Столь обширный эмпирический контекст нужен прежде всего для того, чтобы осознать всю серьезность проблем, которые будут обсуждаться далее.