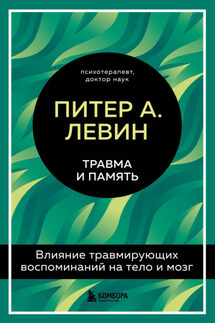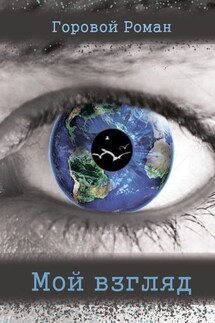Невысказанный голос. Руководство по трансформации тревоги, страха, боли и стыда - страница 17
Развивая мистическую аллюзию с семинара, я наткнулся на статью 1967 года, озаглавленную «Сравнительные аспекты гипноза». Я принес ее вместе со своими идеями научному руководителю в аспирантуре Дональду М. Уилсону[8]. Его областью была нейрофизиология беспозвоночных, и рефлекс оцепенения у животных был ему хорошо знаком. Однако будучи человеком, занимающимся исключительно изучением насекомых и омаров, он по понятным причинам весьма скептически отнесся к теме «гипноза животных». Тем не менее меня по-прежнему влек широко известный феномен оцепенения у животных, и я проводил бесконечные часы среди затхлых, пыльных стеллажей библиотеки для аспирантов по естественным наукам. В то же время я продолжал принимать клиентов, которых направлял ко мне, прежде всего, Эд Джексон, психиатр, от которого в свое время пришла Нэнси. Я исследовал вместе с ними, как различные несбалансированные паттерны мышечного напряжения и постурального тонуса связаны с их симптомами – и как высвобождение и нормализация этих укоренившихся паттернов часто приводили к неожиданным и драматическим излечениям.
Затем, в 1973 году, в речи на присуждение Нобелевской премии по физиологии и медицине[9] этолог Николаас Тинберген неожиданно решил рассказать не о своих исследованиях животных в их естественной среде обитания, а о человеческом организме в процессе его жизни, о том, как он функционирует и дает сбои при стрессе. Я был поражен его замечаниями о технике Александера[10]. Эта телесно-ориентированная практика, которую испробовали на себе он и члены его семьи с заметной пользой для здоровья (включая нормализацию его гипертонии), перекликалась с моими наблюдениями за клиентами с точки зрения взаимодействия разума и тела.
Очевидно, мне необходимо было поговорить с этим мэтром науки. И удалось найти его в Оксфордском университете. С непритязательной щедростью этот нобелевский лауреат несколько раз разговаривал со мной, скромным аспирантом, по трансатлантическому кабелю. Я рассказал о первом сеансе с Нэнси и другими клиентами и о своих предположениях относительно связи ее реакций с «оцепенением животных». Он был взволнован возможностью, что реакции неподвижности, наблюдаемые у животных, могут играть важную роль и у людей в условиях неизбежной угрозы и экстремального стресса, и поощрял меня продолжать исследования[11]. Иногда я задаюсь вопросом, смог бы продолжать без его поддержки, а также без поддержки Ганса Селье (первого исследователя стресса) и Раймонда Дарта (антрополога, открывшего австралопитека).
В памятном телефонном разговоре Тинберген попенял мне своим голосом доброго дедушки: «Питер, в конце концов, мы лишь кучка животных!» Однако, согласно недавним опросам общественного мнения, лишь половина западного мира (и еще меньше в Соединенных Штатах), похоже, верят в эволюцию и, следовательно, в нашу тесную связь с другими млекопитающими. Тем не менее, учитывая очевидные закономерности в анатомии, физиологии, поведении и эмоциях, а также поскольку у нас с другими млекопитающими одни и те же участки мозга отвечают за выживание, разумно предположить: мы можем разделять с ними и общие реакции на угрозу. Следовательно, было бы полезно узнать, как животные (особенно млекопитающие и приматы более высокого уровня) реагируют на опасность, а затем понаблюдать, как они успокаиваются, восстанавливаются и возвращаются к равновесию после того, как угроза миновала. К сожалению, многие практически потеряли эту врожденную способность к стрессоустойчивости и самоисцелению. И это, как мы увидим далее, делает нас уязвимыми перед потрясениями и травмой.