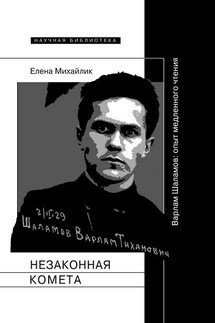Незаконная комета. Варлам Шаламов: опыт медленного чтения - страница 45
Однако разговор Шаламова с Третьяковым остался незаконченным – в том же 1929 году Шаламов был арестован в подпольной типографии и в Москву вернулся только через три года. За это время «Новый ЛЕФ» прекратил существование, затем многочисленные групповые концепции были официально вытеснены соцреализмом, возник, согласно постановлению ЦК, Союз писателей, значительная часть литературной жизни СССР как бы выпала на время из общемирового культурно-исторического процесса. А в 1937 году из литературного процесса по не зависящим от него причинам выбыл и сам Шаламов, хотя и не полностью: в 1943 году он получил новый срок – десять лет, в частности за то, что назвал Бунина русским классиком. Третьяков был к тому времени уже четыре года как расстрелян.
В 1954 году Шаламов начнет оформлять в прозе свой лагерный опыт.
В отличие от Адорно у Шаламова не было сомнений в том, что «после самообслуживания в Треблинке и Освенциме, после Колымской и Вишерской лагерной системы» (6: 541) можно писать и стихи, и прозу, – и точно так же у него не было сомнений, что делать это следует на основе принципов, исключающих традиционную учительную функцию литературы.
Сами же принципы будут звучать удивительно знакомо:
Писатель – не наблюдатель, не зритель, а участник драмы жизни, участник не в писательском обличье, не в писательской роли. (5: 151)
Экзюпери показал, как выглядит воздух, в «Земле людей». Проза будущего – это проза бывалых людей. (6: 538)
Новая проза – само событие, бой, а не его описание. То есть документ, прямое участие автора в событиях жизни. Проза, пережитая как документ. (5: 157)
Все это очень похоже на позицию «фактовиков» и лично Третьякова – собственно, совпадение почти дословное, в теоретических текстах Шаламова присутствует та же четко заявленная ориентация на взгляд изнутри, из глубины «материала». Сам Третьяков некогда жаловался, что «производственными глазами ни вещей, ни людей в искусстве еще не видит почти никто» (ЛЕФ 2000: 235).
Но это позиция «литературы факта», взятая с одним – очень существенным – сдвигом. Шаламов говорит не о документе как таковом. И даже не о «человеческом документе». Но о художественной прозе, впечатление от которой совпало бы с впечатлением от пережитой реальности.
Нужно и можно написать рассказ, неотличимый от документа, от мемуара. (5: 149)
Но для чего это нужно?
Много позже, в 1971-м, Шаламов занесет в записную книжку: «Война может быть приблизительно понята, лагерь – нет» (5: 323).
Шаламову – в соответствии с логикой 1920-х годов – потребовались принципиально иные изобразительные средства для воспроизводства опыта, который не мог быть воспринят внешней по отношению к лагерю аудиторией даже приблизительно. При этом пишет он о людях, которые пережили революцию, голод 1930-х, войну, послевоенную разруху. И тем не менее с лагерем, с Колымой эта аудитория совместить себя, по мнению автора, не может.
С точки зрения Шаламова, чистый документ, непосредственное свидетельство в этой ситуации бесполезны. Чтобы читатель мог воспринять документ, в арсенале культурной памяти должен присутствовать хотя бы относительно адекватный язык описания, который позволит человеку соотнести себя с этим документом.
«Проза, пережитая как документ», обладающая одновременно свойствами «литературы факта» и художественного текста, могла передать читателю чужой опыт вместе со средствами его интерпретации.