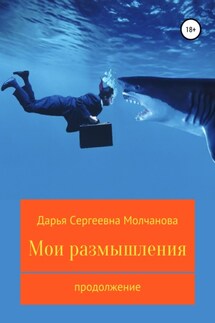Ночь Никодима: человек постхристианской эпохи в западноевропейском и отечественном кинематографе - страница 9
Чтобы почувствовать разницу в ощущении реальности, обнаженной войной, российского и западного сознания, обратимся к фильму Робера Брессона «Приговоренный к смерти бежал, или Дух веет, где хочет» (1956). Дело происходит в тюрьме, куда в период фашистской оккупации (1943 год) попадает главный герой по имени Фонтэн. Он арестован за подпольную разведывательную деятельность. В ожидании решения суда по своему делу он сидит в одиночной камере и ведет обычную (повседневную) жизнь одного из многочисленных заключенных. Каждое утро все узники выходят из своих камер, выстраиваются в цепочку по одному, и, держа в руках каждый свою парашу, спускаются вниз но [26] узкой лестнице во внутренний тюремный двор. Один за другим, двигаясь по кругу, измученные люди подходят к выгребной яме и выливают в нее содержимое параши. Все движения измученных заключенных, похожих на призраков, повторяемые изо дня в день как ритуал, сопровождаются прекрасной, возвышенной сакральной музыкой Моцарта. Эпизод приобретает значение не просто будничной реальности войны (это воспринималось бы так, если бы звука не было совсем), а возвышается до символа новой, страшной и абсурдной реальности XX века, полностью изменившей понятие о человеке.
Свое отношение к реальности Брессон провозглашает еще до начала действия картины, предпослав ей собственный автограф: «Эта история абсолютно правдива. Я рассказал все как было, ничего не приукрасив». Действие, как мы уже упомянули, происходит в 1943 году во французском городе Лионе. Следует сразу сказать, что в картине много деталей, которые на взгляд русского зрителя странны или вообще невозможны (то есть были бы невозможны на территории оккупированного Советского Союза). Например, в самом начале фильма мы видим, что трое арестованных французов этапируются в тюрьму на заднем сиденье легкового автомобиля. Один из них (это и есть главный герой Фонтэн) сидит у двери, он в наручниках, но каждую секунду поездки пытается улучить возможность для побега. Такая «возможность» предоставляется ему, когда автомобиль слегка притормаживает. Фонтэн делает отчаянный рывок из автомобиля. Сцену «побега» режиссер не показывает, остановив камеру на недрогнувшем лице соседа беглеца на заднем сиденье машины. Что было бы с Фонтэном, случись этот инцидент в реалиях фашистской оккупации, допустим, в Брянске? Расстрел на месте и финальные титры картины. Здесь же мы видим, что француза аккуратно ловят (а ведь Фонтэн знал, что машину сопровождают фашисты с автоматами на двух мотоциклах!), и, даже не избив, чуть ли не под руки усаживают на прежнее место в машине. Надо понимать, что реалии оккупированной Франции разительно отличались от ситуации в России, поэтому рассматривать реализм Брессона надо изнутри