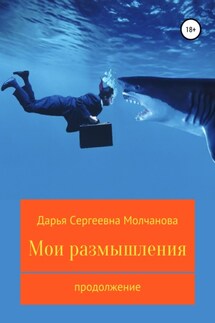Ночь Никодима: человек постхристианской эпохи в западноевропейском и отечественном кинематографе - страница 7
Карл Ясперс развивает понятие экзистенции, актуализируя ее связь с Трансценденцией. Как и Хайдеггер, Ясперс говорит об открытии человеческой сущности перед лицом смерти (крайний случай пограничной ситуации), когда конечность собственного бытия предстает перед человеком со всей непосредственностью и неотвратимостью. В пограничной ситуации становится несущественным все то, что заполняло повседневную человеческую жизнь; перед человеком открывается его сущность как конечная экзистенция. Однако, в отличие от Хайдеггера, Ясперс убежденно говорит о внутренней (долженствующей) связи экзистенции с Трансценденцией. Вне ощущения этой связи человек перед лицом смерти впадает в отчаяние. Но человек в пограничной ситуации имеет возможность личного выбора: обрести мужество в осознании сопричастности Трансценденции – или впасть в безнадежное отчаяние своего одиночества.
Киноискусство, освещающее тему войны, имеет дело с различными проявлениями пограничной ситуации и – главное – выбора, который человек совершает в этот момент. При этом очень часто мы видим, что (сознательно или интуитивно) автор картины включает в изобразительный ряд знаки присутствия Трансценденции, дающие герою силы и мужество для совершения правильного выбора. Эту тенденцию мы можем увидеть уже в фильмах военных лет, в которых ощутимо вот-присутствие войны. Так, само название фильма Марка Донского «Радуга» (1943) отсылает нас к ветхозаветному символу Завета, заключенного Богом с Ноем, спасенным (в силу его праведности) от великого потопа. Образ главной героини – трагическая фигура украинской женщины-матери Олены – несомненно вызывает в сознании уже новозаветный образ Богоматери. В глазах, лике Богородицы с младенцем, запечатленных на иконах, мы видим невыразимую скорбь матери, предчувствующей мученический конец земной жизни маленького Христа. Трагичность Олены, идущей босиком по снегу, с уже мертвым младенцем на руках, воплощает страшную реальность XX века: ребенок принял мученическую смерть, даже не успев совершить свой земной путь. Слова из книги Ванды Василевской, по которой снят фильм, потрясают: «И в этой разлившейся огромной, необозримой пустоте, одинокий, крохотный, трепетал ее сынок, розовый, голенький, повисший между землей и небом. Натянутая кожа, видимо, душила его. Он перестал плакать и не издавал ни звука… Грянул выстрел. Прямо в маленькое личико. Запахло порохом и дымом… Маленькие ножки безжизненно повисли, повисли крепко-крепко стиснутые кулачки. Личика не было – вместо него зияла кровавая рана». Но сам образ Олены, как символ духовного мужества, внутреннего противостояния злу – остается в сознании именно в силу своей отнесенности к великому образу Богоматери.
Визуализацию христианской символики в кульминационных моментах человеческого выбора мы наблюдаем и в более поздних по времени создания кинокартинах на военную тему.
Фильм Сергея Бондарчука «Судьба человека» (1959) по рассказу Михаила Шолохова потряс зрителя своего времени не только страшной реальностью другой, не победоносной войны, но и подлинностью ощущения личности (со всеми ее противоречиями, слабостями и грехами) главного героя – солдата Андрея Соколова в исполнении самого Сергея Бондарчука. На экране жил простой русский солдат, потерявший на войне всю семью, прошедший плен и концлагерь, чудом выживший во множестве смертельных ситуаций, видевший героизм и предательство, подлость и жертвенность – человек, вышедший несломленным из земного ада. Начиная рассказывать случайному знакомому о своей судьбе, Соколов произносит: «За что ж это жизнь меня так искалечила, за что исказнила?» С этого вопроса начинается осмысление пути, который привел солдата к