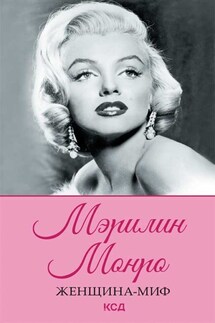Ночь Никодима: человек постхристианской эпохи в западноевропейском и отечественном кинематографе - страница 5
Альбер Камю в работе «Миф о Сизифе. Эссе об абсурде» (1942) на первых же страницах утверждает, что абсурд – чувство, «обнаруживаемое в наш век повсюду». «Сквозь тысячелетия восходит к нам первобытная враждебность мира. Он становится непостижимым, поскольку на протяжении веков мы понимали в нем лишь те фигуры и образы, которые сами же в него и вкладывали, а теперь у нас больше нет сил на эти ухищрения. Становясь самим собой, мир ускользает от нас»[20].
Философа интересуют не столько истоки и проявления абсурда, сколько следствия. «Есть лишь одна по-настоящему философская проблема – проблема самоубийства. Решить, стоит или не стоит жизнь того, чтобы ее прожить, – значит ответить на фундаментальный вопрос философии»[21]. Абсурдность становится болезненной страстью с того момента, как осознается. «Осознавший абсурд человек отныне привязан к нему навсегда. Человек без надежды, осознав себя таковым, более не принадлежит будущему»[22]. Абсурдность мира проявляется в ощущении ужаса человека перед ходом времени, в непроницаемости и чуждости мира, в тревоге человека и, наконец, ожидании «приключения смерти». Однако именно абсурд делает возможной свободу, цель которой – осуществление смысла в мире, который сам по себе бессмыслен. Единственная безусловная реальность – это смерть.
Ощущение богооставленности рождается, в том числе, из опыта десакрализации события смерти в опыте XX века. Жан-Поль Сартр говорит о Боге-молчании, Боге-отсутствии, Боге-одиночестве человека. Человек поставлен в ситуацию абсолютной свободы (в том числе свободы выбора смерти) независимо от реальной возможности ее осуществления, важно само устремление, цель, постановка задачи (человек как «проект»). Человек «осужден быть свободным», и поэтому другой человек со своей свободой есть препятствие, «скрытая смерть моих возможностей» («Другие люди – это ад» – знаменитые слова из пьесы Сартра «Взаперти», 1945).
Экзистенциальная мысль о человеке в отношении к Богу приходит к трагическому тупику, если остается в ситуации свободы одинокого человека, вопрошающего о Боге. Рационализм сознания неизбежно мертвит человеческую потребность в вере и надежде. Выход из этой ситуации не может быть найден в абсолютизации одинокого противостояния Я миру и в категорическом отрицании значения Другого для Я. Это почувствовали некоторые экзистенциалисты, но голоса их остались плохо услышанными – поскольку громкое «Нет!» всегда заглушает простое «Да». Так, в философии Габриэля Марселя происходило постепенное преодоление трагического взгляда на человека, приговоренного к своей конечности («Ты один знаешь, кем я являюсь – и кем я мог бы стать, став самим собой!..» – эпиграф к ранней пьесе Марселя «Человек Божий»), и восстановление «онтологической потребности», то есть потребности полноты бытия. Он приходит к восстановлению значения интерсубьективности – через диалог и речь, и в этом смысле искусство (в частности, драматургия) есть более живая, подвижная, органичная область для восстановления со-человечности, чем философия.
Поворотным событием в эволюции взглядов Марселя стала Вторая мировая война. Как писал философ в своих воспоминаниях, самым большим потрясением для него было открытие факта существования фашистских концлагерей, о чем стало широко известно лишь после окончания войны. Европейцы были поражены масштабом сотворенного ужаса. «Мученики Дахау, Бухенвальда стали современниками Христа. Мало сказать, что эти события словно не разделены двумя тысячелетиями… «Словно» здесь неуместно. Гораздо правильнее было бы сказать, что историческая декорация, пространственно-временные обстоятельства, на фоне которых разыгрывается наша индивидуальная драма и которые сообщают последней ее внешние атрибуты – трагически обрушилась»