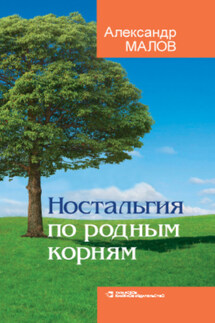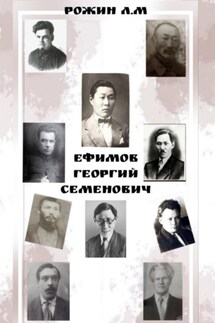Ностальгия по родным корням - страница 2
В ишинском же лесу от нашего села были размещены две пасеки: частная – Василия Беркутова (отца Михаила Беркутова, баяниста, в 30-е гг. часто выступавшего по республиканскому радио) и колхозный.
Лес был смешанный, росло в нём много липы – отличного медоноса. Жаль, в годы войны кварталы зрелой липы были вырублены для каких-то целей, якобы, авиастроения. Пасеку Беркутова, приходящегося мне крёстным отцом, навещал я раза два. Она находилась не так уж далеко от села и была хороша тем, что позволяла пчёлам ориентироваться не только на липу, но и на полевые и луговые медоносы. А колхозную навещал чаще, хотя она размещена была много дальше, в глубине леса, ибо ею заведовал мой отец. Он практически всё лето пропадал в лесу. Но упрекнуть его было не в чем. Будучи мужиком хозяйственным, в свободное время он не бил баклуши, в разумных пределах пользовался дарами леса: косил на опушках траву, заготавливал берёзовые веники, веточный корм, которые хранил в пустых в летнее время омшаниках, и дары леса сохраняли не только зелёный цвет, но и неповторимый специфический аромат. Зимой, бывало, достанешь из сеновала вязанку липовых веток, распространится такой запах – эх! – сам бы ел, да…
Этот не принадлежащий нам лес не только кормил, опосредованно через скотину, конечно, но и обувал нашу многочисленную семью.
Попутно с заготовкой веточного корма отец драл молодую липу. Из лыка искусно и быстро плёл лапти – мягкую и удобную для ходьбы обувь. Со временем, усвоив это ремесло, помогал ему и я; так что к осени на шесте в нашей лачуге вместе с вениками висели по две пары лаптей на каждого из шести детей. С конца апреля до сентября мы, дети, бегали босиком и заготовленного, видимо, хватало до морозов, когда уже в ход пускались валенки.
И не мудрено, что чужой по букве закона лес в действительности являлся для нас таким близким и родным, что каждый выходец из обоих Курбашей вспоминает о нём только с благодарностью…
Теперь, чтобы закрыть разговор о лесе, следует сказать и о положительном воздействии человека на природу.
На левом берегу Кубни, на самой границе с с. Чутеевом издревле пустовало дикое поле, ибо на его песчаных почвах злаковые не произрастают. Между тем известно, что именно такие земли любит сосна.
Единоличному крестьянину засадить ею такое поле было не под силу. Но в первый же год коллективизации ещё не утратившие чувство хозяина земляки мои первые десятки гектаров песков засадили сосной. Посадки не требовали к себе особого внимания. Росли себе и росли, несмотря на войну, хозяйственные и экономические беды крестьян. А в годы увлечения планами преобразования природы рядом с двадцатилетней рощей облесили той же сосной ещё десятки гектаров пустошей.
Ругают советскую власть и колхозы. Но не будь их, сегодня не шумела бы на берегу Кубни прекрасная двухъярусная роща, старшая из коих скоро дозреет до возраста порубок. В сезон здесь можно набрать грибов, есть чем поживиться и охотникам на мелкое зверьё.
Положительный опыт курбашцев не остался незамеченным соседями. В послевоенные годы с верхушки Письмяна до озера и посёлка свои малоплодородные земли засадили сосной хозесановские и кушкульские крестьяне, восточный склон своей возвышенности и низину почти вплоть до Кубни облесили хозесановские.
В поддержании первого компонента красоты ландшафта жителей Молькеевского края оказались на высоте. Любуясь изумрудной зеленью рукотворных сосновых рощ на склонах Письмяна, на берегу Кубни вблизи Чутеева и Хозесанова, так и хочется воскликнуть: «Молодцы, земляки! Так держать и впредь!»