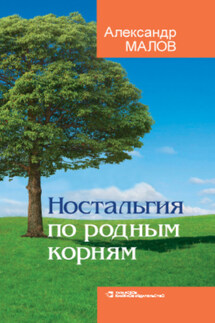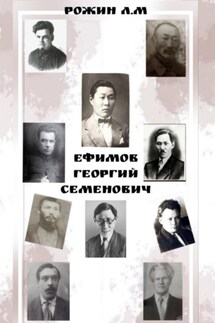Ностальгия по родным корням - страница 4
А полноводная река являлась благом не только человеку. Здесь водилась разнообразная болотно-речная дичь, рыбаки из Кубни в половодье таскали полуметровые щуки. Достоверно известно, что на курбашском отрезке Урюма были выловлены 30-килограммовые сомы. Семьи Штейкиных, Иляковых и Нестеровых, увлекающихся рыбалкой, в любое время года имели на столе рыбные блюда. Благодаря рекам в деревнях выращивали водоплавающую птицу. В знойные дни крупный рогатый скот находил в ней приют от надоедливых слепней, да мало ли кому ещё служила река…
В ней мы купали коней. Распряжёшь, бывало, в обед их от молотильного привода, вскочишь на полюбившегося – и галопом к Кара Тамаку. Там, под вековой ветлой, корнями удерживающей берег при ледоходах, был глубокий котлован. Глубина его ежегодно поддерживалась бурлящими потоками, образующимися на крутом повороте реки ледяными заторами. Здесь-то, уцепившись за гриву, бывало, и плывёшь рядом со стонущим от напряжения и удовольствия конём. Ещё не известно, кому это нравилось больше: им, полдня крутившим барабан молотилки, или нам, их погонщикам?
Куда всё это подевалось?..
На протяжении всего курбашского отрезка реки нынче, захочешь, утопиться негде! Летом, закатав штанины, можно перейти её на любом отрезке. Больно видеть, как там, где купали коней, не плывут – а бродят! – гусиные выводки.
При прогнозах высокой воды для спасения моста и для разрушения мест возможных заторов льда приглашались подрывники. Нынче это не практикуется. А результат таков. Половина родной Заречной улицы смыта, ибо она превратилась в весеннее русло реки. Оставленный на произвол судьбы участок берега у Кара Тамака размыт. Хлынув через него на луга и пашни, Урюм почти проделал себе второе русло, изъяв из хозяйственного оборота не один гектар плодородных земель.
И в довершение бывшую красоту села сами курбашцы превратили в свалку: в русло реки выбрасывают проржавевшие посуду, тазы, велосипеды, тряпьё и полиэтиленовый хлам. Но укора совести, похоже, никто не испытывает. А местная власть делает вид, что ничего не происходит.
Порой так и хочется крикнуть: «Очнитесь! Это же наша земля, земля наших предков!» Закрываю глаза и вижу реки полноводными, с заросшими кустарниками по берегам, по-прежнему одаривающими людей благодатью и здоровьем. Действительность – увы! – драматична…
Обидно за малую родину, за Урюм, за Кубню.
Неужели восстановление и разумное использование водного богатства края остались за пределами возможного? Надеюсь, что это не так. Болезнь зашла далеко, но необратимых процессов ещё нет. И чтобы надёжно излечить её, необходим безошибочный диагноз.
Прежде всего, изложенные выше напасти присуще всем малым рекам. Они отчасти продукт технического прогресса и даже шире – цивилизации. Добавим: когда их достижениями пользуются бездумно, в чём всегда были сильны наши соотечественники…
Рассмотрим историю этой болезни на примере двух наших рек.
Оседлая жизнь на их берегах существует, похоже, не менее полтысячи лет. И столько же раз прошумело на них половодий при существовании водохозяйственных сооружений. Были годы с уровнем воды так себе, а в памяти и такие, что начисто сметало плотины не раз и не два.
Не очень сведущие в законах гидротехники, но трудолюбивые предки с упорством муравьёв возводили её снова и снова. И однажды, рассказывала мама, восстанавливая плотину после очередного прорыва, суеверные предки закопали в неё бродячую попрошайку с суровым наказом: «Держи!»