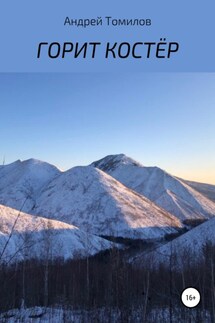Новое назначение - страница 49
– Товарищ Милютин прав, – говорит он.
Кратов простился. Милютин попросил Курако остаться. Через час Курако выходит из вагона. Светит луна. Курако вынимает бумажник. На глаза попадается обрывок. Курако развертывает и видит выбитое прописными буквами имя Джулиана Кеннеди. Курако мнет и бросает бумажку.
Через сутки пара коней доставила Курако на Гурьевский завод. Из Томска он привез спирт. Курако разбудил Казарновского, Жестовского, Зайцева, Джумука – все орлиное гнездо.
– Постройка завода отложена, – говорит он. – Правительство зовет на Юг, восстанавливает старые калоши. Собирайтесь, барбосы. Выступим через неделю.
Лицо его пылало. Он закуривал и выбрасывал папиросы. Табачный дым, казалось, оседал на слизистой оболочке рта какой-то тошнотворной пленкой. Казарновский спросил:
– Не больны ли вы, Михаил Константинович? Поставьте термометр…
– Ерунда. Пей, Казарновский. Мы еще вернемся сюда.
На рассвете Курако выехал в Кузнецк. Через три дня пришло известие, что у Курако сыпняк. Куракинцы послали Жестовского ухаживать за больным.
Жестовский приехал накануне кризиса. Он привел местного доктора и военного полкового врача. На груди Курако вокруг сердца пошли темно-синие, почти черные пятна. Это самая тяжелая форма тифа.
Курако метался в бреду. Он видел аварии. Он кричал:
– Прорвался чугун! Забивай летку! Пушкой! Пушкой! Пусти, я сам. Не умеете работать! Кто меня держит? Почему не пускаете?
Он бредил только домнами. Только доменщик мог понять, что кричал Курако.
Он строил в бреду завод, придумывал новые конструкции, требовал вынести газоочистку из пределов доменного цеха. Доктор сказал:
– Сегодня в двенадцать ночи все решится.
После двенадцати Курако пришел в сознание. Температура упала. Жестовский вздохнул облегченно. Через несколько минут Курако снова забылся. Он лежал тихо, без бреда, с закрытыми глазами. Жестовский не спал трое суток. Он уснул на стуле. Его разбудил вопль.
– Умер! Умер! – кричала сиделка.
Светало. Бледное солнце заглядывало в окно сквозь ветви березы. Полосы света и тени лежали на лице Курако. Жестовский взял руку Курако – она была теплой. Жестовский хотел найти пульс и не мог. Пальцы дрожали. Он бросился к врачу и поднял его с кровати.
Врач констатировал смерть. Весть о смерти Курако облетела город. Кто-то смерил покойника и сколотил гроб. Мертвого не во что было одеть, в пустой квартире не было ничего, кроме верблюжьего азяма. Жестовский снял тужурку и надел на Курако. Пришли музыканты. Принесли красные знамена. С кирпичного завода пришли рабочие. Съехались крестьяне из соседних сел. Появились попы с хоругвями и образами. Их прогнали, они не уходили. Курако решили похоронить на заводской площадке. Гроб вынесли в полдень, поставили в сани и покрыли ковром. Красноармейцы дали три залпа. Из Кузнецка до площадки двадцать пять километров. Несколько сот человек двинулось за гробом. Падал снег. Шли целый день. По пути крестьяне выходили встречать покойника, становились на колени, и снег заносил их. Они знали Курако. На полдороге процессию встретили рабочие Осиновки. Они подняли гроб на плечи и донесли до площадки. Было темно, когда гроб опускали в могилу. Похоронили Курако на самом высоком месте площадки, где предполагался народный дом.
– Отсюда ему будет видно завод, – сказал кто-то.
На Гурьевском заводе о смерти Курако узнали на следующий день. Скорбную весть привез уполномоченный Реввоенсовета Пятой армии. Он остановился у секретаря гурьевской ячейки Лагзинга. Туда сошлись куракинцы. Они молча слушали рассказ о похоронах.