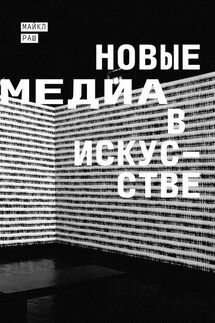Читать онлайн Майкл Раш - Новые медиа в искусстве
Michael Rush
New Media in Art
Thames & Hudson
Данное издание осуществлено в рамках совместной издательской программы Музея современного искусства «Гараж» и ООО «Ад Маргинем Пресс»
Published by arrangement with Thames & Hudson Ltd, London
New Media in Art © 1999 and 2005 Thames & Hudson Ltd, London
This edition first published in Russia in 2018 by Ad Marginem, Moscow
Russian edition © 2018 Ad Marginem
© Дарья Панайотти, Мастерская литературного перевода Д. Симановского, перевод, 2018
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2018
© Фонд развития и поддержки искусства «АЙРИС» / IRIS Foundation, 2018
Введение
Существует устоявшееся представление, что стремление подорвать традиционно привилегированную позицию живописи среди других художественных техник является основополагающим для искусства XX столетия. На заре века Брак и Пикассо, желая расширить спектр изобразительных средств живописи, создавали полотна с использованием бытовых материалов: газетных вырезок, бахромы, веревки. На такую «борьбу с холстом»[1] встали многие художники XX века, от Малевича и Татлина до Поллока и Ричарда Принса (род. 1949), который собирал работы на компьютере, прежде чем перенести их на холст. Абстракционизм, сюрреализм, концептуализм и многие другие формы искусства XX века внесли свою лепту в разрушение живописных основ.
И хотя в таком восприятии есть доля правды, это все же слишком грубое обобщение, которое не способно описать широкое разнообразие художественных практик, возникших в прошлом веке. Другой ракурс, в котором принято рассматривать искусство обозначенного периода, – его «экспериментальная» природа: художники различными способами освобождаются от оков живописи и скульптуры и используют в своем творчестве новые материалы; живопись дополняется редимейдами или деталями объектов, символизирующих повседневность; «объективность» изображения уступает место личной выразительности; новые медиатехнологии используются, чтобы выразить смысл и создать новое представление о времени и пространстве. «Любое искусство – эксперимент, – писал американский кино- и видеокритик Джин Янгблад, – в противном случае это не искусство».
[1]
Ричард Принс
Мое лучшее. 1996
Рисунок краской и текст на холсте присутствуют уже в работах начала XX века, однако на этой работе Принса не сразу бросается в глаза то, что клубки линий были созданы на компьютере, а затем посредством шелкографии перенесены на холст.
Скорость, с которой в XX веке планета покрылась сетями электронных коммуникаций, нашла отражение в стремительной экспансии искусства за пределы традиционных живописи и скульптуры за счет включения в работы предметов обихода – повального редимейда. На каждую вещь уже нашелся художник, который сделал ее частью своего произведения. За такой всеядностью скрывается главная цель современного творца: найти наилучшие средства самовыражения в искусстве. Согласно заложенной Ницше и Фрейдом психологической парадигме, ставящей в центр истории субъекта, искусство также стало восприниматься как сфера проявления индивидуального. Одним из ярких представителей нового образа мысли, согласно которому вся художественная деятельность строилась вокруг фигуры художника, был Марсель Дюшан. Художник, более не связанный невидимыми узами с холстом, стал волен воплотить любой замысел любыми возможными средствами. Его замысел может иметь касательство к истории искусства, к актуальной политической проблематике или к области индивидуальных проявлений. Под влиянием возобладавшего взгляда на приемы и средства выразительности многообразие художественного арсенала так возросло, что критик Артур Данто провозгласил «конец искусства»[2] в том виде, каким мы его знаем. «Оно закончилось, когда искусство в своем прежнем виде прониклось осознанием того, что у художественного произведения нет какой-либо строго обязательной формы».
[2]
Этьен Жюль Марей
Гимнаст, прыгающий через стул. 1883
В конце XX столетия на передовые позиции вышло искусство, непосредственно связанное с наиболее длительной и непобедимой из всех пришедшихся на этот век революций – технической. Возникшее благодаря изобретениям, которые к художественному миру не имели прямого отношения, технологическое искусство (под это определение попадают самые разные практики, список которых включает фотографию и кино, видео и виртуальную реальность, но ими не ограничивается) дало искусству толчок в направлении, которое раньше было вотчиной инженеров и технологов.
Любопытно, что, хотя сама по себе технология подразумевает работу множества механизмов, километры проводов и сложные математические и физические измерения, произведения, созданные на пересечении искусства и технологий, воплощают собой наиболее эфемерный из всех видов искусства: искусство времени. Фотография запечатлевает и доносит до нас мгновение; изображение, созданное в компьютере, вообще не имеет привязки к какому-либо определенному времени или пространству. Изображение, которое было отсканировано, затем обработано и отредактировано на компьютере, стерто или закодировано, преодолевает разрыв между прошлым, настоящим и будущим.
В этой книге рассматриваются лишь некоторые из бесчисленного множества новых художественных техник второй половины XX века. Она рассказывает о ключевых тенденциях в медиаискусстве, перформансе, видео-арте, видеоинсталляциях и цифровом искусстве, в том числе о фотографических манипуляциях, виртуальной реальности и прочих интерактивных формах. Художники, которых технический прогресс не пугает, а подталкивает к использованию новых техник, видят себя частью этих перемен и стремятся продемонстрировать свою причастность к ним. Возможности технологий не отвращают, но вдохновляют их. Для них большую роль играют кино и телевидение, однако, в отличие от прагматичных работников кино- и телеиндустрии, художники стремятся к бескорыстному самовыражению. Они немногим отличаются от тех, кто работает с краской, деревом или сталью, и точно так же изучают, а зачастую искажают как критический, так и технологический потенциал новых медиа. Усовершенствования, которые вносили в медиатехнологии обращавшиеся к ним художники, сами по себе являются любопытным побочным продуктом этих процессов.
[3]
Эдвард Майбридж
Спускающаяся по лестнице и поворачивающаяся.
Из серии «Движение животных». 1884–1885
У новых медиа в искусстве есть своя история, но проследить ее не легко. Последняя точка в ней еще не поставлена, ведь она пишется на наших глазах. Впрочем, никто не откажет нам в праве поспекулировать на тему того, как будет выглядеть такая история, или хотя бы поразмышлять, на чем она будет строиться. Ведь задача истории искусства в том и состоит, чтобы обнаруживать связи и прояснять исторический контекст, несмотря на ограничения, налагаемые жанром обзорной работы.
Легче всего было бы построить историю искусства новых медиа как историю технологий (скажем, от Марея и Майбриджа в фотографии до Эдисона и братьев Люмьер в кинематографе и далее в том же духе), но в таком случае полученная хроника мало чем отличалась бы от хроники развития авиации. И хотя разговор о крупных художниках и течениях в искусстве XX века, предвосхитивших медиаискусство, не будет лишен смысла (найдется ли, к примеру, вид современного искусства, на который не повлиял бы самым решительным образом Марсель Дюшан?), у нас едва ли получится проследить четкую наследственную линию. История не просто совершается у нас на глазах – она складывается благодаря усилиям бесчисленного множества художников, работающих параллельно друг с другом в самых разных частях света. Поэтому тематическое деление представляется нам предпочтительнее хронологического.
Искусство времени
По словам критика и куратора Анн-Мари Дюге, после 1960-х годов «время становится не просто темой, к которой часто обращаются в произведении искусства, но параметром, который определяет саму его суть». С появлением таких форм искусства, как эвент, перформанс, хеппенинг, инсталляция и видео, темпоральность начинает играть ключевую роль. Вместе с тем, интерактивное произведение искусства, созданное на компьютере, подразумевает, что время замирает, когда зритель вступает во взаимодействие с инициирующей художественное действо машиной.
История медиаискусства неразрывно связана с историей развития фотографии в XX веке. Время и память, как персональные, так и исторические, составляют суть фотографии, и вместе с технологией создания статичной и движущейся картинки художники получили новый способ визуализировать время. Произведению, очевидно, необходимо пространство (означаемый объект, сама по себе картина или скульптура, изобразительный элемент существуют в пространстве), куда более запутаны его отношения с категорией времени – именно эти отношения кардинально преобразила революция, произведенная фотографией и ее старшей кузиной, движущейся картинкой – кинематографом. Фотография дала человеку власть над временем, позволив остановить его, изменить его структуру, задать темп при помощи покадровой, ускоренной или замедленной съемки и множества других манипуляций с категорией времени, применяемых в науке и искусстве фотографии.
[4]
Эдвард Майбридж
Движение животных. 1878
Теория времени французского философа Анри Бергсона (1859–1941) оказала большое влияние на художников в самых разных областях: фотографов, живописцев, писателей, хореографов, видеохудожников. Категория времени лежала в основе его метафизики; он полагал, что реальность – это поток, движение времени. «Сущность времени состоит в том, что оно проходит», – говорилось в его влиятельной работе «Материя и память» (1896). «То, что я называю „моим настоящим“, разом захватывает и мое прошлое, и мое будущее». Идеи Бергсона были восприняты художниками и критиками, на Западе о нем писали даже в популярных журналах, повинуясь всеобщей жажде познания. Художники, которых во все времена интересовали пространственно-временные структуры, черпали вдохновение в его философии, построенной вокруг идеи взаимодействия интуиции и познания. По иронии судьбы, Бергсон, оказавший сильное влияние на художников, сам был против сближения искусства и технологий и полагал, что куда важнее непосредственное, интуитивное, не автоматизированное восприятие.
[5]
Джакомо Балла
Динамизм собаки на поводке. 1912
Эффект движения создается за счет частого повторения расходящихся диагоналей.
Как бы то ни было, искусство и технологии уже с момента изобретения фотографии оказываются связаны узами взаимовыгодного сотрудничества, узами, которые и спустя столетие остаются крепкими. Ученый-физик Этьен-Жюль Марей (1830–1904), который мог быть знаком с Бергсоном, так как в начале века оба преподавали в Коллеж де Франс, и художник Эдвард Майбридж (1830–1904) заложили основы моментальной фотографии. Хронофотография, как они ее называли, оказала сильнейшее влияние на художников, начиная с футуристов, среди которых можно выделить Джакомо Балла, до Марселя Дюшана, Курта Швиттерса и таких авангардных режиссеров, как Холлис Фрэмптон и Стэн Брэкидж. Художники, в частности Жорж Сёра и Эдгар Дега, были покорены камерой и ее способностью передавать последовательность действий в форме ряда статичных кадров, однако это не находило столь очевидного отражения в их работах. Те из них, кто, подобно футуристам, способствовал распространению механистической эстетики, применяли фотографическую технологию и обращались к ней в своих живописных работах. А художники середины века, используя последние усовершенствования в области кино и видео, создали то, что мы сейчас называем мультимедийным искусством.