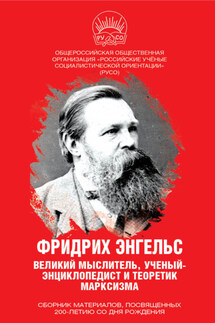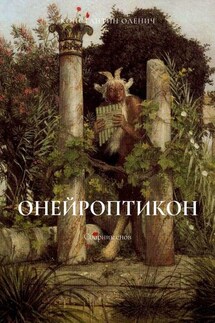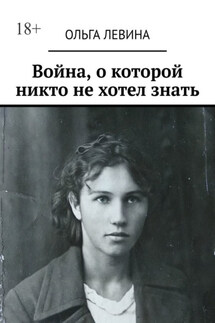Новые Времена – Новые Мысли - страница 4
Тело всё больше расширяет свои владения, не оставляя место духу
Радость существования должна быть жизненным кредо, несмотря ни на какие обстоятельства и превратности судьбы.
Сария Маммадова
Для человека в жизни важно развитие его духовного потенциала, способностей и талантов, заложенных от рождения. У большинства они так и остаются в зародышевом состоянии, как и неразвитые функции мозга, отвечающие за внимание, мышление и другие способности.
Надо понять, что главное – это не прожигать жизнь, предаваясь излишествам, насыщая и удовлетворяя своё тело, а стать настоящим, достойным Человеком.
Многие отдают предпочтение материальному достатку – тому тормозу, который сдерживает духовное развитие человека, его стремление к достижению цели, возвышенному, конечному результату творческой, научной деятельности, к жажде познания.
Многие пытаются всеми правдами и неправдами урвать побольше от жизни, забывая о том, что с собой ещё никто ничего не уносил.
Возможно, когда-то человек прозреет и встрепенётся, рано или поздно увидит наконец в зеркале свою натуру, осознает, что прожил совершенно никчёмную и неинтересную жизнь – ик концу жизни поймёт, что всё было в его руках, можно было повернуть в нужное русло. Потому многим и приходится расплачиваться одиночеством, малоутешительными итогами, ощущением, что жизнь не удалась. Уйти, не оставив ни следа, ни памяти о себе как о хорошем человеке, жившим на благо близких и дорогих ему людей, окружению, обществу. Ведь «мир принадлежит тем, кто готов его согреть, – не важно, мужчина это или женщина» (Лев Кассиль).
Абсолютно к такому же выводу приходят герои классической литературы, философских кинокартин. Ведь известно, что сюжеты для них авторы черпают из жизни, и чаще всего герои не вымышлены.
Таков, например, герой повести Ивана Тургенева «Вешние воды» Дмитрий Павлович Санин. Как точно автор передаёт состояние его прозрения!
«…Часу во втором ночи он вернулся в свой кабинет. Он выслал слугу, зажёгшего свечки, и, бросившись в кресло около камина, закрыл лицо обеими руками.
Никогда ещё он не чувствовал такой усталости – телесной и душевной… И, со всем тем, никогда ещё то «taedium vitae», о котором говорили уже римляне, то «отвращение к жизни» – с такой неотразимой силой не овладевало им, не душило его. Будь он несколько помоложе – он заплакал бы от тоски, от скуки, от раздражения: горечь едкая и жгучая, как горечь полыни, наполняла всю его душу… На сон нечего было рассчитывать: он знал, что не заснёт.
Он принялся размышлять… медленно, вяло и злобно.
Он размышлял о суете, ненужности, о пошлой фальши всего человеческого. Все возрасты постепенно проходили перед мысленным взором (ему самому недавно минул 52-й год) – и ни один не находил пощады перед ним. Везде всё то же вечное переливание из пустого в порожнее, то же толчение воды, то же наполовину добросовестное, наполовину сознательное самообольщение, – чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало, – а там вдруг, уж точно как снег на голову, нагрянет старость – и вместе с нею тот постоянно возрастающий, всё разъедающий и подтачивающий страх смерти… и бух в бездну!»
Кто понял, в чём смысл жизни, часто советует своим друзьям: «В следующей жизни – больше любить жизнь, посмотреть Мир и не бояться извечного “Как бы чего не вышло”» (цит. по к\ф «Последний отпуск» – прим, автора).
Главное – понять, что смысл жизни – не повседневная суета, а любовь к самой жизни! А потому в жизни всему своё время и свой срок, если она проживается должным образом.