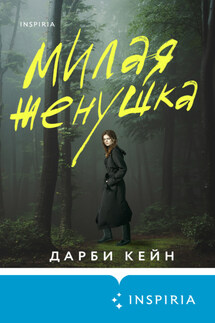О книгоедстве - страница 30
Однако при этом никак нельзя забывать, что и они тоже, в сущности, плоть от плоти своего ревизионистского 19-го века, в котором буквально все сразу подпало под вполне устойчивое и безгранично многозначительное сомнение.
71
При этом надо бы сразу заметить, что все общеевропейские веяния в той-то прежней России попросту разом более чем баснословно утрировались, доходя ведь при этом до самого сущего комизма.
Однако сие вовсе не значит, что гении российской литературы (и, кстати, общемировые классики) нисколько не знали свой народ – знать-то они его действительно знали, да только все их знания носили исключительно подчас умозрительный характер.
То есть, при всей четкости характеристик внешнего поведения внутренняя суть от них фактически так ускользнула.
Исключением тут может быть разве что один доктор Чехов, да еще отчасти и Достоевский, однако в его описаниях русского общества неизменно присутствует слишком вот безмерно глубокое самокапание.
Причем у всех же писателей 19-го столетия, пожалуй, была самая несомненная сила для того, чтобы хоть чего-либо со временем довольно-то действенно переменить.
Да вот, однако, могли они при этом весьма грубо и более чем незатейливо ошибаться, пребывать в сущем хаосе разнузданных чувств, всецело находиться во власти всесильных внутренних противоречий.
Разве они, собственно, не те же самые люди со всеми своими неизменно присущими всякому обыденному человеку недостатками и достоинствами, а потому если все их усердие и не пропало даром, так тому рано еще хоть сколько-то искренне радоваться.
Поскольку – это довольно большой да и открытый вопрос: а принесет ли это вообще кому-либо действительно реальную пользу?
Автор глубоко убежден, что прок он – естественно будет и, может быть, даже очень немалый, но и вреда от чьих-либо надуманных, праздных, как и бесцельно восторженных мыслей в социальной сфере тоже со временем окажется более чем и впрямь совсем не в меру же предостаточно.
Нет, конечно, те самые нисколько не косноязычные в русском языке классики общемировой литературы (Чехов и Достоевский) довольно многое дали всему этому миру поистине хорошего и вдумчиво положительного.
72
У потомственных дворян Толстого и Тургенева, в сущности, никогда не было ни малейших проблем с русским языком, да только не могли они на нем до самого конца выразить все многообразие своих чувств, как и раскрыть всю полноту своих мыслей, а уж в особенности в течение всего своего разнообразного творчества.
«Отцы и дети» Тургенева, «Анна Каренина» Льва Толстого – это явное просветление, посетившее души классиков, ну а в целом русский язык был для них все ж таки несколько чужеродным, а потому и был он в их речах не вполне достаточно эластичным.
Поскольку они в сугубо семейном кругу по большей части говорили только же по-французски и лишь иногда, между делом, по-русски.
Но даже и такие писатели, как Достоевский и Чехов, хотя и являлись вполне полноценными носителями русского языка, однако явная перенасыщенность европейской культурой создала в их умах весьма елейный и утонченный нигилизм, в дальнейшем сколь быстротечно пропитавший сознание их до чего только многомиллионной читающей публики.
Причем речь тут идет вовсе не о духовном восприятии всей окружающей их действительности, а прежде всего о том более чем простом логическом анализе, на основе которого, собственно, и зиждились все оргвыводы, сделанные ими по поводу увиденного наяву, а вовсе не в том самом же несравненно прекрасном и блаженном сне.