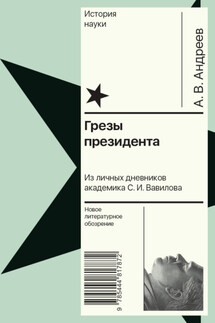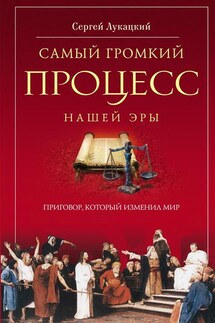Объективность - страница 65
Рисуя с Натуры
Если художники противились подчинению натуралистам, то не склонялись ли они при этом перед природой? Не противоречили ли художественные традиции отображения природы с миметической точностью интеллектуализированным, истинным-по-природе образам? Выражение «нарисовано с натуры» – являвшееся наполовину хвастовством, наполовину гарантийным обязательством – повторяется вновь и вновь в предисловиях к иллюстрированным научным работам XVIII – начала XIX века. Однако его значение было отнюдь не очевидным. Оценки, типа «как в жизни» (ad vivum), «нарисовано с натуры», использовавшиеся художниками как своеобразные заклинания, начиная по крайней мере с XVI века, сами должны быть подвергнуты рассмотрению[183]. Стандартной практикой для ботанической иллюстрации было представлять цветок и плод растения на одном рисунке, но цветение и плодоношение никогда не происходят в природе одновременно. Многие из наиболее пышных рисунков делались с препарированных гербарных образцов[184]. Иллюстраторы часто работали предельно быстро, особенно в неблагоприятных условиях экспедиций: рисунки завершались по возвращении домой. Например, Клод Обрие, иллюстратор, сопровождавший Жозефа Питона де Турнефора в его ближневосточном путешествии (1702–1704), набрасывал очертания растений, в то время как Турнефор диктовал на будущее замечания, касавшиеся цвета, – при этом оба чаще всего сидели верхом на норовистых мулах под проливным дождем[185].
Контраст, производимый выражением «нарисовано с натуры», был не только контрастом между реальностью и фантазией, но также между рисованием модели или, часто, моделей (даже если это были высушенные, разглаженные гербарные или раздувшиеся заспиртованные анатомические образцы) и копированием другого рисунка, так как копирование было тем способом, посредством которого на протяжении почти всего XVIII века художник и иллюстратор обучались рисованию. По крайней мере, три множества практик формируют значение выражения «нарисовано с натуры» для иллюстраторов научных атласов в данный период: во-первых, практики обучения рисованию с особым вниманием к широкому использованию моделей и копировальных книг (книг шаблонов и образцов); во-вторых, орнаментальное и художественное применение определенных образов, прежде всего цветов и человеческого тела; в-третьих, характеристики и нормы, связанные с определенными материалами (акварель, гуашь, пастель) и техниками воспроизведения (гравюра, офорт, литография). Будучи внедренными в саму практику рисования XVIII века, существовавшие стандарты и нормы противостояли предельному мимесису в изображении отдельного объекта природы.
Стандартные этапы обучения рисованию в XVIII веке определяла статья энциклопедии «Рисование». Лучше начинать в раннем возрасте, «когда послушная рука с наибольшей легкостью проявляет гибкость, требуемую для этой работы». После освоения того, как управляться карандашом или красным мелом, вычерчивая по всем возможным направлениям параллельные линии, ученику давали для копирования рисунки «умелых мастеров». И только после продолжительной практики копирования рисунков, сделанных другими, ученику позволялось перейти к рисованию трехмерных объектов. В случае человеческого тела это обнаженная модель – практика, известная как «академическое» обучение, названное так в честь Королевской академии живописи и скульптуры, которая ввела это упражнение во Франции в подражание Римской академии Святого Луки. Но даже на этой стадии ученик не рисовал целый объект, а учился выстраивать изображение постепенно, часть за частью