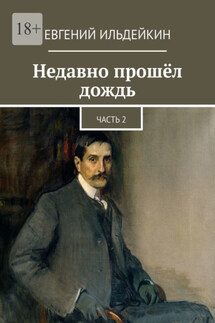Общество как договор между сильными и слабыми. Очерки по экономике истории - страница 23
В силу действия трех вышеописанных факторов путь «из варяг в греки» утратил свою привлекательность как для старого, так и для нового Круга земель, а для русских княжеств, располагавшихся вдоль него, стал сопряжен с сильно возросшими издержками. В конечном счете это положило конец цивилизации, которую Ключевский назвал днепровской, городовой, торговой. Прежде всего она перестала быть днепровской, поскольку южная часть Днепра до его впадения в Черное море была потеряна, что лишило всю реку способности приносить крупные торговые выгоды. Утрата последних привела и к исчезновению торговой специфики Руси, которая состояла в ориентации высшего класса в лице княжеского клана и дружин на торговлю. Эта политика запечатлевалась в строительстве городов, служивших базами для складирования и последующей транспортировки собранной дани для ее обмена на греческие товары. Соответственно, из-за вынужденного отказа жителей этих городов от торговой специализации исчезали причины, когда-то приведшие к их основанию и расцвету.
С помощью этих соображений географического характера можно истолковать как рождение, так и гибель первой (пра)русской цивилизации. Последовавшая за упадком пути «из варяг в греки» массовая колонизация привела к концентрации населения в верховьях Волги и Оки, что изменило его этническую структуру, язык и доминирующий характер деятельности. По существу, все, что объединяет сложившийся на этой территории великорусский этнос с южнорусским этносом Киевской Руси, – это православная вера и династия Рюриковичей, пережившая Киевскую Русь на 400 лет.
К какому точно времени следует отнести переход от киевского к удельному периоду в истории России? И. Кулишер полагает возможным считать началом удельного периода 1054 г. – смерть Ярослава с последующим разделом княжеств. Это обосновывается, во-первых, тем, что внешнеторговая ориентация, по его мнению, не определяла специфику днепровского периода по сравнению с верхневолжским: вместо торговли с Византией развилась торговля Новгорода с Ганзой, Новгород же соединялся прямым речным путем Волхов – Ильмень – Мета – Волга с Москвой. Во-вторых, тем, что торговля как таковая не определяла специфику ни одного из этих периодов по причине незначительности ее влияния на хозяйство большинства населения. Основная масса населения жила земледелием и промыслами для собственного потребления. Верхушка, живя тем же, имела также предметы роскоши за счет торговли. Значит, красивая жизнь незначительной части населения – это единственное, в чем выражалось влияние торговли на общество и хозяйство.
В такой трактовке фактов древнерусской истории отражается распространенный в историографии подход, отводящий естественной среде незначительную роль и ставящий во главу угла деревенскую жизнь абсолютного большинства населения. А поскольку для основной массы русского народа почти вся история России прошла в деревне, при таком подходе во многом стираются границы между различными ее периодами и разными цивилизациями, каковыми, по существу, были Русь, размещавшаяся вдоль Днепра, и Россия с центром в верховьях Волги.
Против такой оценки Кулишера можно возразить, отметив разницу во влиянии на русское общество торговли с Византией и с Ган-зой. Во-первых, в торговлю с Византией была втянута вся Русь с крайней северной ее точки – Новгорода – до крайней южной – Киева. Втянута непосредственно в силу нахождения на торговом пути. В то же время торговля с Ганзой касалась только Новгородской земли, отражаясь слабо на северо-восточных княжествах и никак – на южной Руси. Во-вторых, торговля с Византией определяла иерархию русских городов, начиная от главного города, тогда как торговля с Ганзой на это не влияла. Северо-восточная область со сменявшими друг друга старшими княжествами – Ростовским, Суздальским, Владимирским, позднее Московским – была в стороне от нее, а центр этой торговли – Новгород – не только не был центром русской земли, но и по многим свойствам был самостоятельным государством.