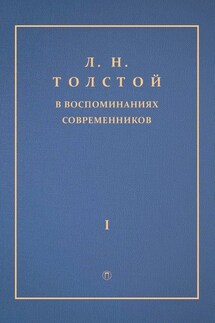Обстоятельства речи. Коммерсантъ-Weekend 2007–2022 - страница 6
Впрочем, весь этот нескончаемый парад умертвий можно принять за проявление затянувшегося горячечного психоза, соответствующего другой национальной традиции, – что, собственно, и делает Достоевский в первых же строчках «Бобка»: «Семен Ардальонович третьего дня мне как раз: „Да будешь ли ты, Иван Иваныч, когда-нибудь трезв, скажи на милость?“»
Мертвый дом
Достоевский возвращается в литературу из омского острога не просто с заметками о каторжном быте: «Записки из Мертвого дома» – модель русской неволи (и ее описания) на все оставшиеся времена. Тюрьма – это изнанка свободы, они, как и русские жизнь и смерть, разделены условной, легко проницаемой чертой.
«Записки» начинаются с картины вольной жизни, которая открывается арестанту через щель в заборе; через сто лет тот же забор появится в первой главе «Архипелага ГУЛАГ»: «Мы счастливо неслись или несчастливо брели мимо каких-то заборов, заборов, заборов… Ни глазом, ни разумением мы не пытались за них заглянуть, а там-то и начинается страна ГУЛАГ, совсем рядом, в двух метрах от нас». Тюрьма – плавильный котел, где перемешиваются аристократия, интеллигенция и народ; место, где писатель встречается с народом (или народ встречается сам с собой), изучает говор всех этих «Разговор Иванычей», постигает его жестокость и мудрость, видит, сколько внутри него наций, истин, вер. Тюрьма – территория рабского бессмысленного труда («каторжная работа несравненно мучительнее всякой вольной, именно тем, что вынужденная»), а иногда работы, в которой жизнь внезапно обретает смысл – «каторжный работник иногда даже увлекается ею, хочет сработать ее ловчее, спорее, лучше»; точно так же Иван Денисович, увлекшись кирпичной кладкой, будет забывать о лагерных тяготах. Тюрьма – это место, где вопреки всему пробиваются проблески человечности, это страдание, которое может уничтожить, но может и возвысить. Солженицын напишет об этом в «Архипелаге», в главе «Душа и колючая проволока», против подобного «обеления» лагерей будет протестовать Шаламов.
«Мертвый дом» и «Архипелаг» – два архетипичных описания неволи, они рифмуются и спорят друг с другом: «Когда читаешь описание мнимых ужасов каторжной жизни у Достоевского, – пишет Солженицын, – поражаешься: как покойно им было отбывать срок! Ведь за десять лет у них не бывало ни одного этапа! – ни внезапных ночных обысков, госпиталь, выбегание из строя за милостыней».
За столетие, разделяющее эти два текста, – написанные, по недавнему определению Дмитрия Быкова, «крупным прозаиком с четырехсложной фамилией… который сидел по ложному политическому обвинению, отбывал ссылку в Казахстане, вернулся, написал об отсидке прославленный документальный роман, с годами из революционеров превратился в пылкие государственники», – сила подавления, обрушивающаяся на человека в тюрьме, увеличилась неизмеримо: ГУЛАГ несравним с омским острогом – и как жизненный опыт, и как тема для романа. Но, при всей разности опыта и его описания, и «Мертвый дом», и «Архипелаг» с равной силой впечатывают в сознание читателя одну жестокую истину, актуальную до сих пор. Система «исполнения наказаний» в России держится на пытках, избиениях, намеренно причиняемых физических страданиях – и на людях, которые добровольно соглашаются их причинять. Описание наказаний розгами и шпицрутенами шокировало современников Достоевского – вплоть до того, что в апреле 1863 года, через год после публикации «Записок», телесные наказания в России были отменены. Сцены пыток в «Архипелаге» действуют так, будто читателю самому втыкают иглы под ноготь, и приводят к единственному выводу – система, в которой возможно такое изуверство, не имеет права на существование; возможно, эта книга сыграла свою роль в том, что она действительно перестала существовать.