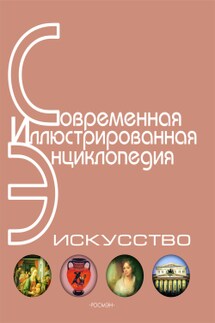Очерки душевной патологии. И возможности ее коррекции соотносительно с духовным измерением бытия - страница 48
Все иначе. Все светлее и… труднее. Труднее… но яснее. Яснее… но больнее – отдать себя. Больнее, но захватывающе радостно стать иным. В этом парадокс. Это Христианство. «Господь пришел, чтобы преобразить, изменить, обновить естество. Устроив спасение, Господь хочет, чтобы желающие спастись – спасались; но никого не принуждает.»
Эту непостижимую тяжеловесному земному рассудку почтительность Бога к Своему творению пытается осмыслить современный православный богослов: «Бог становится бессильным перед человеческой свободой. Человек был сотворен одной волей Божией, но ею одной он не может быть обожен. Одна воля в творении, но две в обожении. Любовь Бога к человеку так велика, что она не может принуждать ибо нет любви без уважения. Божественная воля всегда будет покоряться блужданиям, уклонениям и даже бунтам воли человеческой, чтобы привести ее к свободному согласию. Таков Божественный промысел и классический образ педагога покажется весьма слабым каждому, кто почувствовал в Боге просящего подаяния в любви нищего, ждущего у дверей души и никогда не дерзающего их взломать». /4, стр244 /
Итак, что же делать? Выбор за нами. Идти? «Движение души начинается с образования желания спасения и твердой решимости. Надо чтобы человек сперва понял, потом возлюбил, и начал волею. Если нет воли – Сам Бог ничего не делает.» И далее – «Решимость есть исходная точка. Надо назначить ей цель. Достигнуть обновления естества, душа входит в душу и человек оживает духовно». /«Добротолюбие», том 1, М., 1895/.Того, что преподобный называет решимостью, нельзя переоценить. Это первый шаг, пусть маленький и, может быть, неловкий, но не следует смущаться. Здесь нас уверенно поддержит четким определением св. Исаак Сирин – «Смущение прилично назвать колесницей диавола, потому что сатана возседает на ум с кучей страстей и погружает ее в смущение. В рабском делании нет мира уму. Смущение отнимает вкус у смысла и понятливостии расхищает мысли.»/«Добротолюбие», том 2, М.,1895/.
Стеснение и робость – вовсе не христианские добродетели. Бравада и лихость – то же. А уж постно-унылых, занудно-елейных, напоказ печальных сам Спаситель обличал, как лицемеров, по сути-то и неверующих вовсе (Мф.6:16).
Каким может быть путь? Что если ничего не происходит? Тут св. Иоанн Златоуст резонно замечает: «Как скоро мы вовлечены в борьбу, то должны стоять мужественно, а если нет вызова к ней, то должны спокойно ожидать времени подвигов, чтобы показать себя и нетщеславными и мужественными» /Св. Иоанн Златоуст «Толкование на св. Матфея Евангелиста», т.1, М., 1993, стр.226/.
Аспекты зрелости
Святые Отцы предлагают советы для поддержания духовной жизни. Этим наставлениям, которые удивительно пригодны для нашего времени, полторы тысячи лет. Но они пронизаны теплым светом сострадания, предостережения, заботы и здравого смысла. Вслушаемся в них, попробуем их применить для того, чтобы устроить душу правильно. Попытаемся соотнести их с понятиями современной психологии.
«Не старайся распознать достойного от недостойного, пусть все люди будут у тебя равны для доброго дела» /Св. Исаак Сирин, «Добротолюбие», том 2, стр.705/
«Христиане должны стараться никого не осуждать ни явную блудницу, ни грешника, ни бесчинных, никем не гнушаться и не делать различия между людьми»/Творения преп. Макария, «Добротолюбие», том 1/.
Поскольку человек мыслит, постольку он имеет суждения, то есть судит. Суд представляет собой оценку, определение позитивного и негативного смысла. В этих высказываниях Отцы стремятся повернуть вектор нашей оценки вовнутрь. В суждении о себе, суде над собой и осуждении себя – начало духовной мудрости. В том, что Отцы учат относиться к людям, не делая различия между ними, есть искра высшего смысла, может быть превосходящего наше понимание. Как мы можем отнестись одинаково к родным и, скажем, к случайным прохожим? А так: либо для родных делать так мало, как для прохожих, или прохожим, нуждающимся в нас, уделить столько внимания, сколько родным по естеству. Да, первый вариант – ниже-естественный, второй выше-естественный. Пока мы не в силах совладать с симпатиями и антипатиями, очарованием и отвращением, но, обращаясь вовне, мы можем, по крайней мере, сохранять благожелательную корректность. Будет ли это притворством? Мудрая женщина, прошедшая сталинские лагерные «крутые маршруты», однажды заметила: «Лучше фальшивая вежливость, чем искреннее хамство».