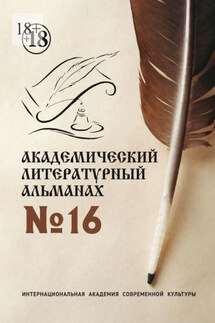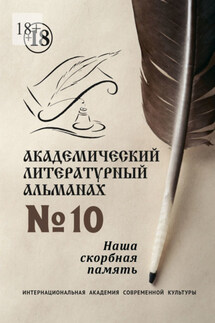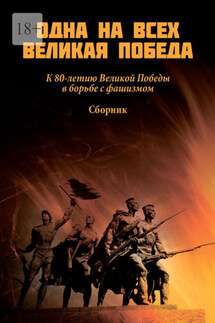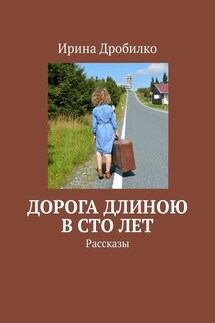Одна на всех Великая Победа - страница 7
Мама учила нас любить и уважать его как родного человека.
Весной сад дышал ароматом и тронутой розовым белизной, как спустившееся с небес облако. Осенью он устилал землю яблочным ковром. И такой в нём стоял одуряющий дух, будто находился ты внутри пирога с повидлом. И весь он светился медово. Зимой сад принаряжался в одежды, сотканные из лучей и самоцветов. Вечером, ожидая родителей с работы, мы свет не включали: так было уютнее ждать. Тихонько работало радио: шли интересные передачи для школьников. Кухня освещалась отблесками из весело потрескивающей печки и прощальными лучами солнца. Скользя сквозь ветки яблонь, оно опускалось в крепкий снег и омывало его малиновым. И сердце омывалось этой красотой. В метели сад шумел и плакал и завораживал музыкой ветра. Круглый год сад заботливо приманивал для нас птиц: чечёток и снегирей, дятлов и соловьёв, соек и ласточек и множество иных неизвестных пичужек. Всё наше детство освещено садом, как добрым мудрым солнцем. Он, цветущий среди скучных прозаичных соседских огородов, дарил нам ощущение избранности, причастности к чему-то высокому, непреходящему. Может, потому и проросли в душе стихи, что цвёл сад…
Он жил нашей жизнью. В ту весну, когда умер папочка, любимая его яблонька путимовка одна из всего сада не покрылась белой шалью, словно вместе с нами решила носить траур. В неустойчивом предательском мире сад казался незыблемой точкой опоры. Он напоминал нам об огромном, узнанном только по рассказам мамы саде наших предков-помещиков, выходившем сразу в лес. И пробуждал в нас чувство родства с нереально далёкими, но такими близкими людьми, чьи сердца тоже сладко-больно бились от ускользающей красоты родной земли.
А потом сад начал умирать. Упрямо он цеплялся еще за высокое недостижимое небо хрупкими своими ветками и цвёл вопреки наступающей сухости, и покрывался мельчающими плодами. Восковку, неохватную развесистую грушу, мы спили в сентябре. Первой с ней простилась Наталья. Как взошло солнце, подошла и поцеловала нежно шершавый ствол. Когда-то взбирались по нему высоко-высоко. И груша раскрывалась, как друидический дворец с переходами, площадками, с навесными коридорами. И всюду, как лампочки, горели плоды. Кончились груши. Прощай, милая восковка. Не стало янтарки, чьи цветы в мае сплетались в такое тесное кружево, что ни листочка не проглядывало. Исчезли лёшинские яблоки, тяжко бившие в июле о землю, о крышу сладко-кислыми крупными плодами, разламывающимися сразу от удара на две пахучие половинки. Уже не попробуем мы наливавшиеся соком до солнечной прозрачности свечковые яблоки. Перестал благоухать малинник. Не ловят в себя июньский воздух полосатые бочонки крыжовника. И вот погибла ёлка. Её свела со свету аномальная жара. А мы, неразумные, поливая цветник и молодые деревца, забыли о великанше, слепо веря в её силу.
Мы стараемся удержать ускользающую красоту. Но нам, пытающимся восстановить сад в прежней красе, продавцы фыркают в лицо: «Вы старые сорта спрашиваете. Таких сейчас нет. Кому они нужны?» Нужны. Нам. Эти старые пахучие нежные сорта, вырвавшиеся из сгинувших помещичьих усадеб, намного вкуснее дубильных вымученных селекционными опытами новых. Во всяком случае – для нас. Приходится брату прививать дички почками от старых деревьев. Новый сад будет долго не плодоносить.
Сегодня сад, конечно, не тот. Но в сердце чётко проложены его аллеи. В нём сад такой, какой явился нам на рассвете нашей жизни и в свой расцвет. И если там, за последней чертой, есть всё-таки некая Богом данная земля и если нам позволят, мы попадём в знакомый до боли сад. Где нетронутыми будут возноситься в вечность восковка, липы, ёлка… Мы пойдём по прямым его аллеям к закату солнца, и в конце нас будут ждать папочка, бабушка. И дедушка – Арепьев Григорий Иванович.