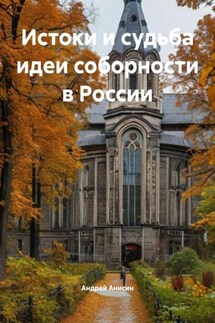Онтологические основания общества и государства - страница 6
2. Смысл жизни личной и общественной
Проблема смысла жизни существует в современной философии весьма парадоксальным образом. С одной стороны, безусловно признается, что эта проблема имеет огромное значение, для большинства людей она вообще осознается как главная, центральная, а порой даже единственная проблема философии. Кроме того, XX век дал весьма сильную традицию экзистенциальной философии, ориентированной как раз на проблемность «живого переживания жизни». Но, с другой стороны, проблема смысла жизни практически не разрабатывается в философской литературе.
Достаточно взять в руки любой учебник философии, чтобы убедиться в том, что современная философская мысль ничего не говорит на эту тему учащейся молодежи. Учебник, конечно, не является, строго говоря, научным трудом, но не ради ли учебников в том числе осуществляются все научные исследования и философские размышления. Педагогическая направленность относится к сущностным чертам философии, которая и начиналась когда-то в диалоге учителя и ученика, и по сей день именно ради выработки и передачи определенного духовного опыта философствует философ.
Проблема же смысла жизни как нельзя более принадлежит к тем вопросам, с которыми к философу могут обратиться «простые» люди и молодежь в первую очередь. Более того, эта проблема – как раз тот вопрос, к постановке которого философ должен настойчиво подводить людей, пробуждая и побуждая их к сознательному выстраиванию своего мировоззрения. Если бы эта проблема была, действительно, разработана в серьезной философской литературе, была бы совершенно необъяснима нераскрытость темы смысла жизни в литературе учебной. Ведь чаще всего смысл жизни – единственное, что нужно человеку от философии (если кому-то что-то от нее вообще бывает нужно).
Но все дело в том, что сами «философы», то есть люди философски грамотные, интересующиеся философией и преподающие ее, не могут внятно ответить на этот вопрос. И даже у философов без кавычек и, может быть, даже с большой буквы, то есть у тех мыслителей, которые философию движут вперед, которые сами движимы философской Мыслью, не так-то просто найти ответ на столь важный философский вопрос: «В чем смысл жизни?» Дело доходит уже до того, что сам этот вопрос звучит уже почти неприлично «по детски», как звучал бы вопрос к ученому-астроному: «Сколько звезд на небе?» То есть предполагается, что серьезные взрослые люди, настоящие философы такими вопросами не занимаются. Как ни парадоксально, это так и есть.
Даже философы-экзистенциалисты, которым, казалось бы, «на роду написано» ставить и решать проблему смысла жизни, вовсе не так часто обращаются к ней, и даже эти обращения маловразумительны. Пожалуй, самый яркий пример постановки проблемы смысла жизни в экзистенциальной философии мы можем видеть в творчестве Альбера Камю. Ведь он прямо объявляет вопрос о смысле жизни главным и единственным настоящим вопросом философии. И ставится этот вопрос им предельно остро: «Есть лишь один поистине серьезный философский вопрос – вопрос о самоубийстве. Решить, стоит ли жизнь труда быть прожитой, или она того не стоит, – это значит ответить на основополагающий вопрос философии. Все прочие вопросы – имеет ли мир три измерения, существует ли девять или двенадцать категорий духа следуют потом»