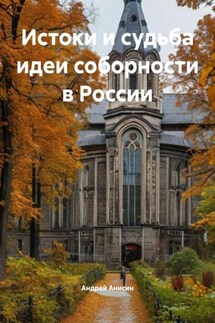Онтологические основания общества и государства - страница 9
Эта настоящая постановка вопроса о смысле жизни ставит человека перед проблемой личного бессмертия, «ибо логические требования, вытекающие из содержания понятия смысла, вынуждают нас полагать цель, осмысливающую жизнь, вне жизни; а нравственные требования запрещают допускать, чтобы личность была в каких бы то ни было руках, хотя бы и руках Бога, только средством; между тем, если нет бессмертия, а цель жизни остается вне жизни, то личность оказывается всего только средством или орудием. Если же, наоборот, мы верим или хотим верить в смысл жизни и в то же время не хотим нарушать ни логических, ни нравственных требований, то мы обязаны верить и в бессмертие. Другими словами: вера в личное бессмертие есть условие и логической, и нравственной допустимости веры в смысл жизни»>6. Действительно, любые рассуждения о смысле жизни всегда предполагают определенный вариант бессмертия – реальный или иллюзорный. Соответственно, предполагая некое иллюзорное бессмертие (в памяти людей, в потомках, в делах на земле), можно говорить лишь об иллюзорном смысле жизни, и только реальное бессмертие души может быть основой реального смысла жизни.
Ни наличие смысла жизни, ни действительность бессмертия души доказать невозможно, однако, как показывает Введенский, и мы с ним полностью согласны, связь этих двух предметов веры совершенно несомненна. Мы попробуем продвинуться еще несколько далее в раскрытии логических предпосылок и следствий веры в смысл жизни. Очень важно здесь будет вслушаться в язык, на котором говорится о смысле жизни, в те слова, которые неизбежно всплывают, когда затрагиваешь эту тему. Отметим еще, что все вышесказанное о явном наличии у человека потребности в смысле жизни, позволяет нам не только исходить в дальнейших наших рассуждениях из предположения реального его существования, но и считать такую нашу позицию вовсе небезосновательной.
Итак, что же можно сказать, исходя из той гипотезы, что смысл жизни есть? То, что он есть, означает только одно: жизнь человеку именно дана, притом дана не просто так, а зачем-то. Сам вопрос о смысле жизни, вопрос «зачем жизнь?» предполагает именно такое видение жизни. Притом если жизнь «дана» человеку как-то метафорически, то и о смысле ее можно говорить только метафорически. Наличие реального смысла жизни предполагает, что жизнь реально дана. Всякий смысл определяется конечной целью, предназначением, стало быть, и смысл жизни человека определяется предназначением человека. То есть, Тот, Кто жизнь дал. Он дал ее не просто так, а к чему-то человека предназначил: предварительным образом назначил человеку определенную цель. Это является залогом существования смысла жизни.
«Предназначение» само по себе, по своей внутренней сути является еще чем-то внешним для человека, это есть соотнесенность моей жизни с некими целями, заданная помимо моей воли и сознательной свободы. Однако в жизнь человека «предназначение» входит как «призвание». Тот, Кто жизнь человеку дал, не просто к чему-то человека предназначил, Он еще и призывает человека к сознательному и свободному исполнению этого предназначения. Столь дорогое и значимое для человека слово «призвание» означает ведь именно «призыв», услышав который, надо на него откликнуться и быть ему верным. То есть это означает, в конечном счете, откликнуться и быть верным Тому, Кто тебя зовет. Тому, Кто тебе жизнь дал. Слово «призвание» имеет, таким образом, откровенно религиозный смысл, и мы считаем необходимым употреблять его именно в этом – точном и полноценном – значении. Тот, кому не нравятся религиозные смыслы, должен, видимо, отказаться вообще от использования этого слова, заменив его другим, более адекватно выражающим нужную мысль.