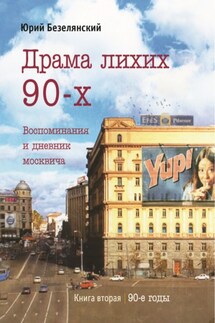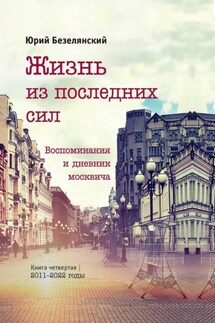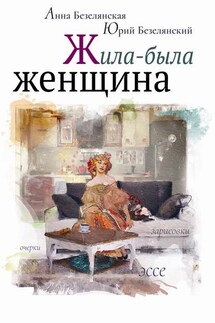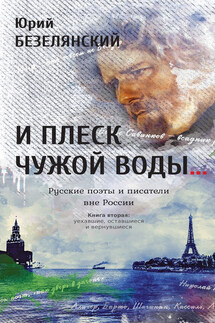Опасная профессия: писатель - страница 61
Смешной эпизод, не правда ли? Конечно, талант – и какой – огромный! Появившиеся в «Аполлоне» стихи были нежными и поблескивали, как перламутр:
Мандельштам поступает на историко-филологический факультет Петербургского университета (диплом, однако, он не получил) и входит в круг петербургской богемы. Ранний Мандельштам – весь легкий и светозарный. («За радость тихую дышать и жить, / Кого, скажите, мне благодарить?..»). Сначала он, вроде бы, числился в символистах, но вскоре отходит от символистского визионерства и приобщается к акмеизму. В программной статье «Утро акмеизма» заявляет: «Мы не хотим развлекать себя прогулкой в «лесу символов», потому что у нас есть более девственный, более дремучий лес – божественная физиология, бесконечная сложность нашего темного организма…»
И призыв: «Любите существование вещи больше самой вещи и свое бытие больше самих себя – вот высшая заповедь акмеизма».
Мэтры поэзии не приняли мандельштамовский манифест, и он был опубликован лишь в 1919 году в воронежском журнале «Сирена».
В 1913 году за свои деньги Мандельштам издал первый сборник стихов «Камень» (тиражом 300 экземпляров). Примечательно, что в нем символизм и акмеизм спокойно соседствовали, на что указал Николай Гумилев в «Письмах о русской поэзии». Вот одно из стихотворений Мандельштама, ставшее классикой:
В конце 1915 года выходит второй сборник «Камень», как принято говорить, дополненный новыми стихами. «Поэзия Мандельштама, – отмечал Ходасевич, – танец вещей, являющихся в самых причудливых сочетаниях». Но были и другие критики, которые отмечали «деланность», книжность, холод стихов. Все дело в том, что менялся сам Мандельштам, менялась интонация. Поэт перенимал тютчевскую лирическую манеру с ее возвышенным тоном и ораторским пафосом. Вместо лирических миниатюр появились маленькие оды или трагедийные монологи. Так постепенно складывался тот торжественный и монументальный стиль, который наиболее характеризует зрелую поэзию Осипа Мандельштама, «ледяной пафос» – как выразился Михаил Кузмин. И еще: все меньше в стихах Мандельштама остается лирики, все больше проступает история, но история не статичная, а вечно живая, вся в движении и перестановках:
По наблюдению исследователей Мандельштама, он больше всего любил смешивать, переслаивать и выявлять различные культурно-исторические пласты, прослеживать и выявлять их глубинные связи и сложные взаимодействия. Сам образно определял принцип своей поэтической работы:
В статье «О природе слова» он писал: «Русская культура и история со всех сторон омыта и опоясана грозной и безбрежной стихией русского языка…
Каждое слово словаря Даля есть орешек Акрополя, маленький Кремль, крылатая крепость…»