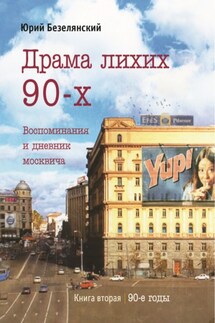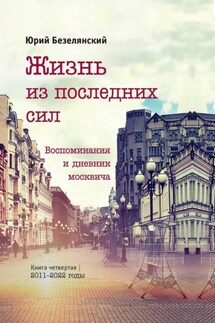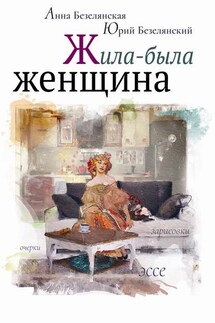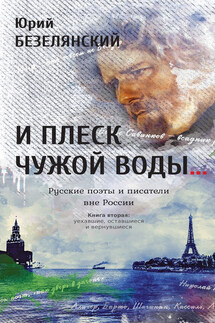Опасная профессия: писатель - страница 64
Булгаков закончил прекрасную гимназию, а затем медицинский факультет Киевского университета. В Первую мировую войну и Гражданскую молодой врач делал ампутации и прививки, вскрывал нарывы, принимал роды… «Пережил душевный перелом 15 февраля 1920 года, когда навсегда бросил медицину и отдался литературе». Первые литературные опыты прошли во Владикавказе.
Впервые в Первопрестольной Булгаков побывал в 1916 году, а постоянным жителем Москвы стал с 1921 года. Но каким жителем? Без службы, жилья и денег. Бегая в поисках заработка по Москве, перебиваясь чаем с сахарином и картошкой на постном масле. Мечтал жить по-людски, «восстановить норму – квартиру, одежду, книги». Прежде чем стать журналистом, Булгакову пришлось поработать конферансье, редактором, инженером и даже составителем световой рекламы. Ну, а с весны 1922 года Булгаков прочно вступил на журналистскую стезю. Печатался в «Рабочем», «Рупоре», «Красном журнале для всех», «Гудке» и в других изданиях.
В своих пристрастиях Булгаков был воинствующим архаистом и поражал москвичей своим вкусом и одеждой (ну, это когда пришел твердый заработок): обожал фрак, рубашки с манжетами, запонки, одно время носил монокль, любил говорить старомодное «да-с» и «извольте-с». Булгаков поражал москвичей, а Москва поражала Булгакова.
Первое впечатление о Москве, в которую будущий писатель добрался в товарном вагоне (1921 год!): «Бездонная тьма. Лязг. Грохот. Еще катят колеса, но вот тише, тише. И стали. Конец. Самый настоящий всем концам конец. Больше ехать некуда. Это – Москва, Москва».
С помощью Надежды Крупской Булгаков получил комнатку в типичном московском доме вблизи Триумфальной площади. Дом № 10 по Большой Садовой, где Булгаков жил в квартире 50, а затем в № 34. Именно здесь развивалось стремительное действие в романе «Мастер и Маргарита». Жил там Булгаков со своей первой женой Татьяной Лаппа, которая очень быстро ходила и была прозвана «быстрой дамочкой».
С «Записками на манжетах» Булгаков отправился на Сретенский бульвар: «В 6-м подъезде – у сетчатой трубы мертвого лифта. Отдышался. Дверь. Две надписи. «Кв. 50». Другая загадочная – «Худо». Отдышаться. Как-никак, а ведь решается судьба».
Свою судьбу в Москве Булгаков ковал ногами. «Не из прекрасного далека я изучал Москву 21–24 годов. О нет, я жил в ней и истоптал ее вдоль и поперек… Где я только не был! На Мясницкой – сотни раз, на Варварке – в Деловом дворе. На Старой площади – в Центросоюзе. Заезжал в Сокольники, швыряло меня и на Девичье поле…»
Из-под пера Булгакова выходили удивительные материалы: смесь очерка, репортажа и фельетона. Точность и деловитость соседствовали с лукавым юмором и едкой сатирой. Булгаков шлифовал свой будущий стиль.
Любопытно вспомнить, как в 1924 году он восклицал: «Москва! Я вижу тебя в небоскребах!» Булгакову эту картину не довелось увидеть, а вот нам! Мы увидели, но, увы, нам не хватает булгаковского сарказма в описании нынешних «Сити» и различных небоскребов-циркулей.
Время требовало верноподданнических бардов и хорового восхищенного пения, а Булгаков не был бардом и не хотел петь в хоре. По мироощущению он был сатириком, наследником Гоголя и Салтыкова-Щедрина, он все время находил в прекрасной советской действительности какие-то ужасающие пятна и недостатки. Время требовало барабанных палочек, а Булгаков тяготел к скрипке. Время требовало поддержки и оваций, а Булгаков скептически усмехался. Как отмечал Сергей Ермолинский, Булгаков «был общителен, но скрытен». «Он не был фрондером! Положение автора, который хлопочет о популярности, снабжая свои произведения якобы смелыми, злободневными намеками, было ему несносно. Он называл это «подкусыванием советской власти под одеялом». Такому фрондерству он был до брезгливости чужд, но писать торжественные оды или умилительные идиллии категорически отказывался».