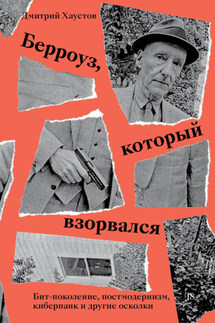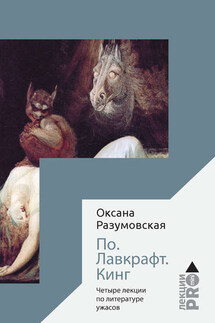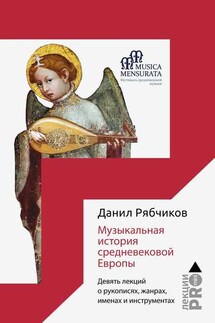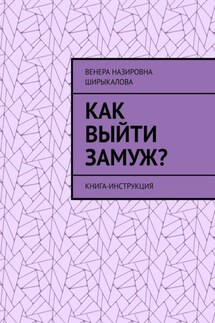Опасный метод. Пять лекций по психоанализу - страница 9
Послевоенный культурный бум включил психоанализ в свою орбиту. Популярность фрейдовской теории стремительно росла в США, укреплялись различные психоаналитические общества – Нью-Йоркское, Лондонское, Берлинское, – во Франции художественные авангардисты, прежде всего сюрреалисты, использовали психоанализ как источник вдохновения для самых смелых идей, эпатировавших по-прежнему викторианскую буржуазию.
Фрейд, однако, художественным авангардом не заинтересовался – он всю жизнь оставался последовательным классицистом, и в поле его художественно-психоаналитических интересов попадали одни лишь титаны: Леонардо и Микеланджело, Шекспир и Достоевский. Подчеркнутая иррациональность современного ему авангарда отталкивала его, убежденного сторонника Просвещения. Об этом у Рудинеско: «Мыслитель Просвещения, Фрейд следовал за Кантом и придерживался идеи о том, что человек призван войти в мир разума и понимания, а для этого ему необходимо избегать всяческого отчуждения. Он уважал знаменитые слова, требовавшие мужества и обретения знаний: „Осмелься думать сам“, верил, что, научившись владеть собой, можно подчинить любые инстинкты. Точно так же он был убежден и в том, что элиты должны вести за собой толпу, а не играть роль „представителей народа“. Он оставался привязан ко всему тому, что олицетворяло патриархальную власть»[26]. И вместе с тем получалось так, что власть в его время оказывалась в руках не просвещенных управленцев, но перверсивных тиранов и параноидальных идеологов – словом, тех монстров, что будто сошли со страниц некоторых фрейдовских книг.
Между двумя мировыми войнами – на пороге второй Фрейд скончался – психоанализ, как, впрочем, и весь мир вокруг него, колебался от тех или иных – когда счастливых, когда несчастных – потрясений. Главным теоретическим событием для Фрейда был переход к новой топике и введение знаменитой триады Сверх-Я, Я и Оно в поворотных работах начала 20-х: «По ту сторону принципа удовольствия» и «Я и Оно» (1920-го и 1923 года соответственно). Помимо этого, в работе «Коллективная психология и анализ человеческого Я» (1921) психоанализ распространяется с уровня индивида на уровень коллектива – своевременный и влиятельный жест в уже грянувшую эпоху тоталитарных культов.
Несмотря на все обвинения в догматизме, сопровождавшие Фрейда и много после его смерти, он никогда не стоял на месте, его теория перерабатывалась и обогащалась. Почти что патологически строгий по отношению к ближайшим своим последователям, создатель психоанализа не раз – кто знает, сознательно или нет – интегрировал в собственную теорию некоторые из тех ересей, из-за которых ему приходилось скандалить с учениками. Так, вторая топика похожа на компромисс с ересью Юнга: если пункт расхождения с последним для Фрейда заключался в «размытии» понятия либидо, то и сам он изрядно размывает свой опорный термин, эксплипируя в нем изначальный конфликт между Эросом и влечением к смерти.
Жизнь вокруг Фрейда была по-прежнему бурной: младшая дочь его, Анна, которая вскоре сама станет видным психоаналитиком, проходит у отца психоанализ (порой Фрейд даже называл ее своей «единственной дочерью»[27]; к слову, по правилам психоаналитической практики лечить собственных родственников запрещается, но Фрейд был тем человеком, кто никогда не следовал этим правилам); ближайший его ученик Отто Ранк порывает с учителем, вводя неортодоксальное понятие травмы рождения (1924, окончательный разрыв между Фрейдом и Ранком происходит в 1926 году, следом за этим Ранк делает очень успешную психоаналитическую карьеру в США); умирает от сепсиса один из ближайших его последователей – Карл Абрахам (1925; еще раньше, в 1920-м, от осложнений после беременности умирает дочь Фрейда София); наконец, и сам Фрейд обнаруживает на правой стороне челюсти опухоль – так в его жизнь входит рак, мучивший Фрейда всю оставшуюся жизнь, привязавший его к ненавистному челюстному протезу (Фрейд называл его «мое чудовище»), а следом и вовсе сведший профессора в могилу.