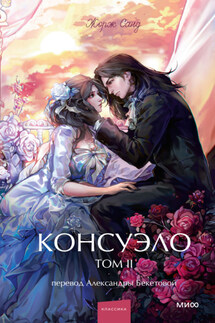Основы истории философии. Том 4. Часть 1. Философия современности - страница 77
Вследствие этого учения об эмпирической необходимости Шопенгауэр не дает в этике законов, а лишь описывает действия, которые считаются моральными или аморальными. По его мнению, для всякого разумного существа аморальными являются два рода действий:
1. Те, что проистекают из чистого эгоизма,
2. Те, что проистекают из чистой злобы, то есть из намерения причинить другим прямой вред.
Кроме этих, у людей есть еще третья побудительная причина действий – сострадание. Действиям, вытекающим из него, приписывается подлинная моральная ценность. Такие действия относятся к области двух добродетелей:
– справедливости, благодаря которой я противодействую проявлениям своего эгоизма и злобы, вредящим другим,
– человеколюбия, благодаря которой я приношу большие или меньшие жертвы для облегчения или устранения чужой нужды.
Сострадание – основа всей истинной нравственности.
Если действие должно проистекать из сострадания, то есть исключительно ради другого, то его благо должно быть моим непосредственным мотивом, подобно тому как в большинстве других действий моим мотивом является мое собственное благо. Я должен каким-то образом отождествить себя с другим. Но как это возможно? Это объясняется метафизически: поскольку внутренняя сущность моего собственного явления есть также сущность другого, то для познающих это границы между различными индивидами исчезают, и каждый говорит себе: «это – ты», видя другого; «ты сам – страдающий», видя страдания другого. Таким же образом объясняется, почему чувство сострадания распространяется не только на людей, но и на животных, что Шопенгауэр считал особой ценностью своей этики.
Следовать состраданию, конечно, морально, но это лишь низший полет человека; есть и высший. Сама по себе сущность жизни, воля, само существование, как оно проявляется в каждом индивиде, есть постоянное страдание, отчасти жалкое, отчасти ужасное. Воля в своих проявлениях есть не что иное, как желание, потребность. Ведь желают только тогда, когда в чем-то нуждаются. Всякое стремление возникает из неудовлетворенности текущим состоянием, а потому есть страдание, пока оно не удовлетворено. Но ни одно удовлетворение не длится вечно; скорее, оно всегда становится отправной точкой нового стремления. Поскольку же нельзя увидеть конечной цели стремления, нет и меры, и предела страданиям.
Как только стремление хоть на короткое время прекращается в жизни, тут же появляется другой демон жизни, существующий наряду с нуждой, – скука. Это – зло, которое ни в коем случае нельзя недооценивать; она заставляет существ, столь мало любящих друг друга, как люди, тем не менее так сильно искать друг друга и тем самым становится источником общительности. Повсюду против нее, как и против других бедствий, принимаются общественные меры предосторожности – уже из государственной мудрости, ибо это зло, как и его противоположная крайность – голод, может толкнуть людей на величайшие бесчинства: panem et circenses (хлеба и зрелищ) требует народ. Скука – столь ужасное зло, что уже доводила заключенных до самоубийства. Если нужда – постоянный бич народа, то скука – бич высшего общества. В обыденной жизни она представлена воскресеньем, как нужда – шестью будними днями. Между нуждой и скукой жизнь качается, как маятник, туда и обратно.
С ростом интеллекта увеличиваются и страдания, поэтому у человека они достигают наибольшей степени. Объявлять этот мир хорошим или даже наилучшим из возможных – не только глупо, но и безбожно, тем более что воля в своих отдельных проявлениях яростно борется против самой себя. Мир – наихудший из всех, какие только можно представить, и будь он чуть хуже, он вообще не мог бы существовать. Жизнь не стоит того, чтобы её проживать, небытие несравненно предпочтительнее бытия. Воля изначально слепа, она не обладала интеллектом, который создал этот мир и жизнь в нём. Так Шопенгауэр проповедует самый решительный пессимизм.