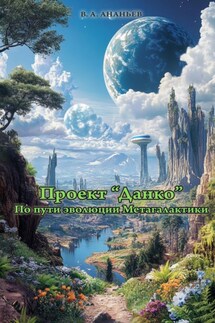Остановиться, оглянуться… (Поэтический дневник). Том 2 - страница 15
«По крохам записывал осень…»
«Давай поедем в город…»
1994 год. Будапешт. Национальный музей. Играют Шуберта. Рядом оживает Дунай. Город, и без того красавец, с дивными мостами, замками, улочками, мадьярской кухней, становится более пронзительным.
Нас встречали Томас и Изольда. Томас (он же Илья) давно эмигрировал в Австрию, потом уехал в Будапешт, где живёт по сей день. Он очень хлебосольный, гостеприимный. По совместительству он сводный брат моего близкого друга, певца Мераба Мегрели. Томас переходит в беседах с одного языка на другой. В одном разговоре слышится и иврит, и грузинский, и венгерский, и немецкий, и, конечно, русский. Они воспитывают, своего внука. Мать Бубика, жена их сына, погибла в автокатастрофе, а он не получил ни одной царапины…
Я как бы приостановил главу и вошёл в новый театр. Возвращение поездом Будапешт-Москва. Пересечение границ, да что там границ – это было пересечение судеб. В вагон тянули сумки, приходили в непотребном виде искорёженные жизнью женщины, потерявшие своё начало. Появлялись мужики, тут же отстёгивали проводникам, те готовили пустые купе, накрывали столы с дешёвой водкой… Будапешт оставался за гранью.
Я читал Довлатова. За створками купе ехали его персонажи, вылупившись, как из яйца, из той эпохи. Таможня торговалась, сама предлагала взятки, пограничники сшибали сигареты, а персонажи Франсуа Рабле подмигивали, улыбались, наливали. Шёл поезд Будапешт-Москва. В Конотопе подсели милые украинские торговки.
Куда мы едем? Ночь, а скорее переход ночи с 8-ми до 2-х – накипевшая досада винницкого парня, который зарабатывает себе на жизнь стройкой в Москве. Строит дом большому чиновнику. Рассказывает страшные вещи. Рассказывает о последней ночи, о пьянке, о поножовщине, о жене, о ребёнке, которому два месяца. Укладывается спать на второй полке, оставляя мне узкое пространство для мыслей и чтения книги Михаила Казакова.
Книга очень умная и добрая, с огромным количеством фактов, имён. Я вижу Давида Самойлова, мудрого лирика, потрясающего поэта. Вижу красивого, архаично красивого Арсения Тарковского. Вижу могучий «Современник», театр эпохи 50-60-х. Театр откровения и наива, веры и романтики, театр утопии и вечного благородства. Книга многое мне помогает понять и многое простить, ибо вечность нарушает гармония смерти, и от этого безумно грустно, потому что с уходом Самойлова, Тарковского уходишь немного и ты…
Вот на днях умер Зиновий Гердт – олицетворение добра второй половины XX века.
Поезд дотягивает до фонарей, до света. Я выхожу из вагона и не могу уснуть до утра. Я вспомнил стихи Давида Самойлова, которые читал Гердт на своём последнем вечере, предчувствуя уход. Большой артист и большой друг всем нам.