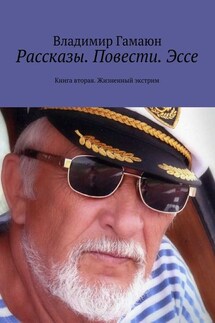Остров «Недоразумения». Повести и рассказы о севере, о людях - страница 60
Трепетно взяв её в руки, он сразу ощутил приятную тяжесть трудовых сбережений, это вам не сберкасса, где ни пощупать, ни полапать не дадут. Свинья, хоть и была до сих пор по-детски розовой, да только щель под самым хвостиком оказалась грешно разработанной дальше некуда. Ильич вспомнил, как в своё время по пьянке тужился, проталкивая туда ассигнации и крупные монеты, будто чувствовал приближение чёрных дней. «Э, да там, в том свинячьем анусе, бляха-муха, целый Клондайк, Эльдорадо!»
Начался обратный процесс, поноса у хрюши не было, и потому каждый, добытый из чрева свиньи, бумажный целковый давался с трудом. Монеты, правда, иногда мелким поносом, ручьём выливались, радуя взор Ильича и теша нетрезвую душу.
Но вот, кажется, и хватит. Помня, что всё в этом подлунном мире когда-нибудь кончается, он почти сразу перешёл на режим жёсткой экономии: стал потреблять только тройной одеколон, а уж когда ему вдруг попадался вкусняшка «Огуречный лосьон», то это уже был пир, баловство и извращение, и с этим были согласны все его соратники, хотя отказаться от такого соблазна и радости жизни, были не силах да и не больно и хотели. А чё, вкусно, дешево и сердито, всегда бы так.
Загул продолжался, а жена-баба только диву давалась: откуда у Ильича такие-сякие резервы появились, она пытала его самого. Но он молчал как Зоя Космодемьянская: «Не знаю ни хрена и баста. Мир не без добрых людей, в отличие от некоторых женщинов».
Однако пьянство ещё никого до добра не доводило, и вот в один из нехороших, похмельно-привычных дней, когда на Колыме было привычно под минус 50, Ильич привычно вытряс из уже хорошо разработанного очка свиньи привычные три целковых и привычной дорогой привычно устремился к открытию пьяной лавочки, как иногда звали магазинчик, торгующий спиртным. Всё в тот день и было бы до тошноты привычно, вот только по привычке спеша в лавку, Ильич забыл запрыгнуть в свои растоптанные валенки, а когда на улице обнаружил, что топает по снегу в одних носках, махнул рукой и продолжил путь как ни чём ни бывало: тут недалече, да и обернусь скоренько, ничо не будет.
Где был, что делал, как шёл домой на автопилоте, кувыркаясь в штормовом снегу, помнит плохо, только вот, когда в тепле ноги стали отходить, заревел от невыносимой боли, как бугай колхозный, которого звали «Зайчик». Ладно, что баба, вернувшись к вечеру с дежурства, сразу принялась спасать да обихаживать своего непутёвого сожителя. Она мазала ему ноги дожидавшимся своего часа гусиным жиром, да и ещё какой-то гадостью, восстанавливая кровообращение, растирала мягкими шерстяными варежками, что-то при этом шепча. Потом она дала ему что-то выпить, после чего он уснул как младенец, пуская пузыри с соплями и причмокивая во сне.
На следующее утро, убедившись, что ноги, хоть и посиневшие, и опухшие, остались при нём, Ильич возликовал и даже перекрестился, глядя в угол с иконкой и небольшой чадившей там лампадкой, что, впрочем, не помешало ему плюнуть в тот же угол от избытка чувствс. Наверное, от такой чёрной неблагодарности к Богу у него чуть погодя отслоились, а потом и отвалились обе подошвы вместе с толстыми, чёрными, потрескавшимися пятками, а ещё чуток погодя слезли, один за другим, и длинные, кривые, чёрные ногти.
И вот уже который день сидит Ильич дома, лечит обмороженные ноги, любуется новенькими пятками, розовыми, мягкими детскими ноготками и мается мыслью о своих душевных ранах. Он считает, что у него сильнейший стресс и хронический сушняк в горле, и что если эти симптомы срочно не устранить, то так можно ведь и помереть ненароком. Так-то оно так, только вот жена-баба, уходя на работу, стала запирать его на большой амбарный замок: «Шиш вот тебе, дорогой Иван Ильич!»