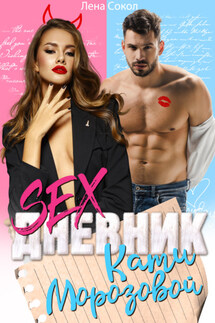От противного. Разыскания в области художественной культуры - страница 2
Главная апория формализма заключалась в том, что вытеснение из литературы ее смысла теорией было чревато неразличением искусства и не-искусства, как бы ни был высок научный интерес к специфицированию постигаемого участка культуры. Если литература не есть особого рода знание (каковое узурпировалось теоретиками, дефинировавшими ее по внешним признакам, сугубо в плане выражения, подставлявшими свои доводы на место ее когнитивного содержания), если она всегда одно и то же необычное видение вещей (одинаковое для В. Б. Шкловского что в эротическом фольклоре, что у Льва Толстого), то новое, привносимое ею в социокультурный обиход, оборачивается тавтологией. Как может тогда литература изменяться во времени? Она «остраняет» мир, пребывающий сам по себе в прежнем состоянии, ее вхождение в историю однократно. «Остранение» не открывает в помимо него существующем ничего, кроме себя же. Гипертрофия исключительного придавала ему ту всеобщность, которая должна была бы явиться его противоположностью. В формалистской модели литература – это данность, у которой нет происхождения (до середины 1920-х гг. ОПОЯЗ отказывался от генетического изучения художественного творчества). В роли всеобщего исключительное конституируется через самоотрицание. В неотрефлексированно вынужденном диалектическом жесте формалистам приходилось рассматривать эволюцию словесного искусства в виде обмена, связывающего маркированные и немаркированные эстетически знаковые образования.
Чем стройней и определенней хотела быть формалистская теория литературы, тем глубже она увязала в противоречиях. С одной стороны, злободневный художественный эксперимент был для Шкловского квинтэссенцией эстетической деятельности как таковой: «…футуристы только осознали работу веков. Искусство всегда было свободно от жизни»[7] («Улля, улля, марсиане!», 1919). С другой стороны, эстетические находки, по Шкловскому, мертвеют и хоронятся на кладбище форм. В статье «О „Великом металлисте“» (1919) он писал:
…так называемое старое искусство не существует, объективно не существует ‹…› Всякая художественная форма проходит путь от рождения к смерти, от видения ‹…› до узнавания, когда вещь, форма делаются тупым штучником-эпигоном по памяти, по традиции, и не видятся и самим покупателем[8].
Литература «деавтоматизирует» мировосприятие, но при этом ей по ходу истории постоянно угрожает «автоматизация», низводящая художественную речь на ступень практической коммуникации. Таким образом, всякая операция по обработке «материала», наделенная эстетической функцией, вместе с тем дисфункциональна. Как ремесло, techné – творчество обязуется вырождаться в самоподражаниях в труд по заданному ему алгоритму.
Сообразно такой диалектике у превращения искусства в не-искусство есть обратная сила. Раз художественная норма то и дело ломается, она открыта для того, чтобы впустить в себя расположенное за ее гранью. Якобсон замечал:
…писания, вовсе не задуманные как поэтические, могут быть восприняты и истолкованы как таковые. Ср. отзыв Гоголя о поэтичности азбуки, заявление футуриста Крученых о поэтическом звучании счета из прачечной или поэта Хлебникова о том, как порою опечатка художественно искажает слово[9] («О художественном реализме», 1921).
Это представление подчиняло себе и разборы отдельных текстов: Эйхенбаум обнаруживал в «Шинели» вставки деловой прозы (подобные инкрустированию доподлинно утилитарных изделий в живопись на полотнах кубистов) и отступления от ведения сюжетного повествования в «небрежную болтовню и фамильярность»