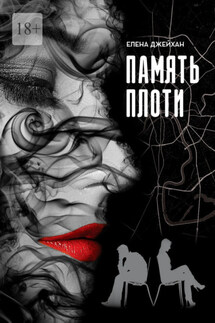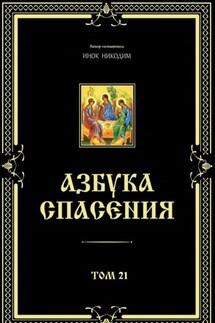Память плоти. Психологический детектив - страница 2
– Так, Ялов, звоним в полицию или пишем по собственному?
Вадим молчал. Батькович распалялся: должен же он был доказать себе, что не ссучился.
– Я тебе говорил: дверь не закрывать? Я тебе говорил: тихо сидеть? В бога решил поиграть: девку конченую полечить? Ты от чего ее лечить вздумал, она без мозгов давно?
Вадим заметил, что на столе Батьковича не только его дело, но и толстая медицинская карта Арефьевой Алеси Максимовны 1999 года рождения. Вадим вздохнул: «Орет, может, еще не решил?» Полутора ставок едва хватало на аренду убитой однушки в Кузьминках. На жизнь Вадим зарабатывал на тех пациентах, чьи родители еще имели веру и деньги на спасение своих непутевых чад. А источником частников был все тот же диспансер. На его территории все: и врачи, и психологи, и консультанты – набирали пациентов, а где еще их набирать, Вадим не знал. Это Юлька-докторица: капельницы может ставить, по объявлениям ездить. Опасно, но купировать запойных – прибыльное дело. У Вадима не было капельниц, ему нужно было устоять, удержаться, хотя бы полставки, хотя бы группу сохранить. Терапевтическая группа из двенадцати-пятнадцати человек была особой гордостью клинического психолога, ядро его успеха. Все знали: и пациенты, и их родители – попасть в группу к Ялову – все равно что ангел поцеловал – парни и девушки в ней были в ремиссии от девяти месяцев до двух лет, что равноценно чуду. Вадим приступил к борьбе:
– Денис Егорович, так как я мог ей отказать? Она записалась по району, или мать ее записывала. Она чистая уже недели три.
– Ты что, ее мочу на вкус проверял? Или Narcoscreen-ом тестировал? Ты сам себе придумал, что она чистая, а она на винте, может…
Батькович замолчал. Он почти попался, потому что был хорошим врачом и отлично понимал, что произошло, он даже уважал Вадима и хотел его сохранить, но ему нужен был ремонт в подвале и хотя бы одного этажа для платного приема, и Министерство финансировало только подвал, и без префектуры он бы не потянул, поэтому он молчал и думал, как ему и птичку съесть, и невинность соблюсти. Вадим пошел ва-банк:
– Группу не отдам.
Батькович поморщился притворно: полставки – как раз два занятия группы в неделю. Он кивнул:
– Кабинет сдашь. Пиши.
Потеря кабинета была чувствительным ударом, но он что-нибудь придумает. Вадим взял чистый лист, махнул заявление о переводе на полставки, переправил его на край стола начальника и спросил:
– Что Арефьева?
– Льют ей, уже полчаса льют, мать вызвали. Через час очухается. СтаршАя ей майку дала со Дня медика. Иди, Ялов, сильный у тебя хранитель, свечку поставь: из-под статьи тебя вынимаю.
Вадим ушел. Батькович уже сам верил в то, что спас неразумного Вадима от страшной участи, уже гордился собой, вот только глаза его не глядели на написанное корявым почерком заявление.
Палату в наиэлитнейшей клинике Москвы, в которой Лаура провела в коме пять месяцев после аварии, черепно-мозговой травмы и успешной, по словам звездного нейрохирурга, операции, она называла про себя «Мой саркофаг». Если бы она могла видеть, то удивилась, насколько далекой от этого названия выглядела комната, в которой она лежала: жалкие постсоветские потуги администрации клиники и жесткие финансовые ограничения ее владельцев привели к тому, что в комнате стояла новая, но недорогая мебель из ДСП, которая безуспешно изображала роскошь и домашний уют, и действительно умопомрачительная по виду, стоимости и функциям кровать для больных в коме, созданная швейцарским инженерным гением. Кровать выглядела так, как будто это был инопланетный корабль, готовый к взлету. К Лауре давно вернулись слух и обоняние, и ее постоянно выбивало из колеи сочетание запахов и звуков из девяностых с какими-то сигналами, казалось, попавшими в палату из будущего. Мебель катастрофически воняла клеем для ДСП и скрипела, а кровать благоухала электронами и мю-мезонами и при изменении положения издавала звуки галактической музыки.