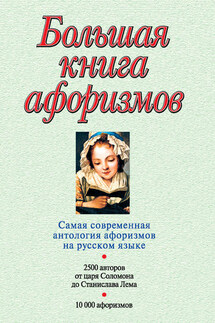Память прошлых других. Как трансцендентальная экспликация историчности: к онтологии исторического сознания - страница 29
1. 3. 2. Тройная оппозиция и опыт памяти
На сей раз его союзники: Бергсон, Гуссерль и Кейси. Если воспоминания принадлежат нам, сегодняшним, спрашивает Рикёр, то каким образом они связаны с прошлым, «узнаются как „прошлые“»? [ПИЗ, 46]. Ответ он предлагает искать с помощью нескольких оппозиций, имеющих неопределённый эпистемологический статус, который «вытекает из взаимопроникновения дословесного жизненного – его я называю жизненным опытом, переводя этими словами Erlebnis гуссерлевской феноменологии, – и работы языка, которая с неизбежностью ставит феноменологию на путь интерпретации, то есть герменевтики» [ПИЗ, 47]. Яркое признание, бросающее нас уже с первой оппозицией «привычка – память» в самые недра «исторического состояния» (о чём, впрочем, Рикёр сам честно предупреждает [сноска 28]). Здесь имеет значение опыт и прежде всего опыт: повторяющийся, а потому являющийся частью моего привычного настоящего, или вспоминающий, а потому представляющий мне уникальность того события, которое прошло и более не повторится30. Запомним: причина уникальности прошлого в его неповторимости, точнее, его повторимости только как воспоминания, но не в воспоминании.
Другая оппозиция: воскрешение в памяти – вызывание в памяти, или, как мы будем писать в дальнейшем, памятование – припоминание. Здесь, кроме уже знакомого нам противопоставления пассивного чувства и активного поиска в памяти, важным является тесная связь этого поиска-разыскания с забвением. Прошлое забыто: частично или полностью – таков априорный факт, при допущении которого только и возможны все дальнейшие припоминания, равно как и простые памятования. Более того, оно забыто, как подчёркивает Рикёр, двояким образом: или в результате классического забывания, медленного стирания следов ранее помненного, или сразу же после восприятия за ненадобностью, но при этом сохраняется в некотором латентном состоянии где-то в бессознательном. Причём как именно нечто забыто, неясно, и «эта неуверенность относительно глубинной природы забвения придает исследованию оттенок беспокойства. Тот, кто ищет, не всегда непременно находит» [ПИЗ, 51]. Существенным, следовательно, моментом выступают различные механизмы успешного припоминания: от квазимеханических ассоциаций до сложнейшей работы по мнемической реконструкции, которая, начавшись опять-таки от аристотелевских syllogismos (размышлений), впоследствии превратилась в целое искусство ars memoriae.
Сюда же Рикёр относит и «чрезвычайно важное» различие, проводимое Гуссерлем в «Лекциях по феноменологии внутреннего сознания времени», «между ретенцией, или первичным воспоминанием, и репродукцией, или вторичным воспоминанием» [ПИЗ, 55]. Суть его в том, что воспринимаемая вещь не одномоментна, но обладает некоторой длительностью восприятия: чтобы воспринимать её как ту же самую (например, звук), необходимо постоянное удержание в памяти первоначального восприятия. Само это удержание не есть воображение уже прошедшей вещи, но модифицированное восприятие; как таковое, оно продолжает оставаться в настоящем. Гуссерль предполагает здесь даже более сложный процесс, связанный с вторжением памяти в самое средоточие настоящего впечатления: именно в этой связи он говорит об «удержании удержаний», об «истекающей длительности», подразумевая, что «любой момент актуальности уже оттенён ретенциально», или, попросту говоря, что любое «начинается» уже тем самым длится. В свою очередь, вторичное воспоминание, как ре-презентация, есть уже работа воображения, позволяющая ещё раз быть данным тому, что некогда было дано. Подобно хвосту кометы, образ прошлого следует за настоящим. Однако, в отличие от Платона и Брентано, Гуссерль берёт на себя ответ на вопрос: при каких условиях «воспроизведение» является воспроизведением именно прошлого? «Воспоминание, напротив, полагает то, что воспроизведено и, полагая его, ставит в ситуацию лицом-к-лицу по отношению к актуальному „теперь“ и к сфере изначального временного поля, которому само принадлежит» (§23). Эта «вторичная интенциональность», с удовлетворением заключает Рикёр, «соответствует тому, что Бергсон и другие авторы называют узнаванием – завершением удачно проведенного поиска» [ПИЗ, 61]. Мы же здесь для себя отметим пока несколько загадочную «ситуацию лицом-к-лицу» между ретенцией и репродукцией и прямо отсылающую к трансцендентальной философии «сферу изначального временного поля».