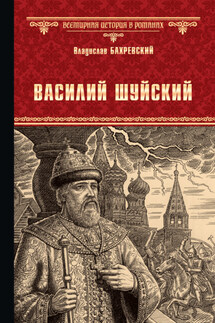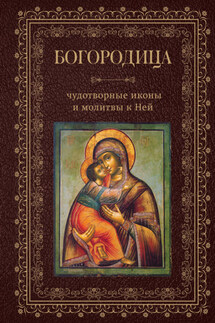Патриарх Тихон. Пастырь - страница 36
Помог заодно и Екатерине Александровне: написал устав для Свято-Владимирской женской учительской школы. Эта школа была детищем супруги обер-прокурора.
Вчерашний провинциал стал желанным человеком для высокородного чиновничьего Петербурга, началось восхождение.
В апреле 1889 года архимандрит Антоний указом государя Александра III был назначен ректором Санкт-Петербургской духовной академии, а уже 3 мая его хиротонисали во епископа Выборгского, викария Санкт-Петербургского.
Чуть ли не первым деянием нового ректора стало возвращение в академию Антония (Храповицкого), на должность доцента по кафедре Ветхого Завета.
Студентам быстрое возвышение Антония (Вадковского) казалось справедливым. Возвышение умного, не рвущегося к власти человека и впрямь было обнадеживающим…
Преосвященный считал непростительным держать замкнуто, отстраненно от мира духовные силы академии. Государству было трудно, ломка крепостнического строя протекала болезненно и долго. В городах и местечках как грибы поднимались заводы и фабрики. Среди капиталистов многие вышли из крестьян, вели дела до безобразия прижимисто, обирали рабочих. Озлобление выливалось в бунты. По всей России прокатилась молва о Морозовской стачке. Присяжные взяли сторону рабочих, царь в гневе упразднил сам институт присяжных. В Петербурге орудовали марксисты, прививали рабочим завезенный из Европы атеизм.
Преосвященный Антоний решил побороться за души рабочих. Обновляя миссионерскую работу Общества распространения религиозно-нравственного просвещения в духе Православной церкви, он привлек к проповедничеству студентов.
Третьекурсник Беллавин вместе со своими товарищами по воскресным дням ходил на заводы беседовать с рабочими. Открылось: пастырь без осмысленного опыта народной жизни, без житейской мудрости не соберет стада под крышу святой благодати. Беседы с рабочими были еще одной академией.
Румяная земля
Закончив третий курс, Василий Беллавин пожил с неделю в доме отца, в Торопце, и поехал к брату Ивану, который получил место священника в Одигитриевской церкви Пошивкина погоста.
Церковь и дом батюшки стояли неподалеку от озера Жижцо. В народе говорили, что в окружности оно не меньше сорока верст. В озеро впадали реки Кудесница, Должа, Узмень и множество ручьев. Украшением Жижцо были два острова, Серебряный и Окромез.
Супруга Ивана поехала к своим родителям показать годовалого внучонка, а сам он только-только разделался с сенокосом, благо угодья причта близко, на островах.
– Я холостякую, одной ухой кормлюсь, – признался Иван. – На зорьке – на лодочку, заеду за Серебряный, у меня там свое местечко. Заводь махонькая, а рыбка клюет с аршин.
– Так уж и с аршин! – засмеялся Василий.
– Сам увидишь. Тут и судак, и щука, и налим, шарашпер…
– А это что такое?
– Род судака. Лини попадаются, лещи, язи. Плотва косяками ходит. Берега возле погоста, сам видел, песчаные, но возле леса места есть илистые, там можно и с бредешком походить.
Иванова ушица была сладка: трех судаков завалил в чугун.
Поели, помянули добрым словом Павла, поговорили о младшем Мишеньке. Мишенька по полугоду болеет. Уже четырнадцать лет, а перешел только в третий класс духовного училища.
– Ничего, выучится, – вздыхал Иван, – он вроде покрепче стал…
После обеда прилегли на полчасика, и захотелось батюшке показать брату приход. Заложили лошадку в бричку, поехали по деревенькам. Фаонь, Загорье, Михалково, Васихново, Татвужно, Парна, Вечково… Деревеньки небольшие, но избы везде стояли тесно. Зажиточных крестьян можно было по пальцам сосчитать. Их дома устроены из двух изб, соединенных сенями.