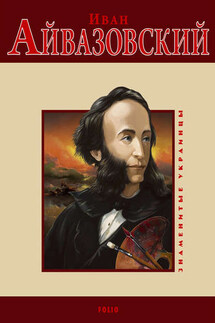Павло Загребельный - страница 7
С 1929 года рушится патриархальный быт Солошино. Закрывают церковь. Проповедуют религию колхозного строительства. Манихейство, деление той поры на черное и белое – грех против истины.
«…Маленького Павла посылали сушить вишни – на крышу сельской деревянной церкви. Церковь уже приспособили под зернохранилище, но старинные иконы еще были целы, и мальчик часами всматривался в них… – публикует в 2004 году свой репортаж Ольга Унгурян в газете «Факты». – Спустя годы он станет знаменитым писателем, автором бестселлеров. Со стороны может показаться, что Павло Загребельный баловень судьбы и успех сам шел ему в руки. Но это совсем не так. Не случайно в числе любимейших философов Павла Архиповича – урожденный киевлянин Николай Бердяев, сказавший: «Я страдаю, значит, я существую».
«Сегодня мы теряем то, что приобрели, и как нынче советскую власть ни проклинают, а она дала очень много. В селе на Полтавщине, где я родился и рос, 90 процентов жителей были неграмотными, и моя мать в том числе. Когда создали кружки по ликвидации безграмотности, мама туда ходила и брала меня с собой. В пять лет я уже прекрасно читал. Именно тогда людей научили писать и читать, дали среднее образование молодежи, – утверждает на склоне лет Загребельный в интервью Дмитрию Гордону в «Бульваре Гордона». – В процентном соотношении мы стоим на первом месте по количеству людей с высшим образованием, и это все забыть? Значит, образованные либо уедут за границу, либо останутся невостребованными. На чем будем строить общество?»
В 1931 году Павло теряет маму. На рубеже 80-х художник нарисовал портреты матери и отца по выцветшим старым фотографиям. Эти два портрета родных людей будут висеть над письменным столом Загребельного до последнего его дня. Семилетний Павло будто и не заметил маминой смерти. Подобно академику Карналю.
«Воспринял ее как переход в какое-то непостижимое, недоступное разуму состояние: между небом и землей, нечто вроде полосы света, прозрачная дымка, просвеченная розовым солнцем, крыло теплого тумана, которое увлажняет тебе глаза тихими слезами. Уже впоследствии, став академиком, не верил ни в метампсихоз, ни в поэтичные байки о белых журавлях. Продолжал верить в светлую дымку между небом и землей, видел там свою мать, и чем старше становился, тем видел отчетливее. Но кому об этом расскажешь?»
В 1932—1933 годах Загребельный переживет голод. «…Голодная весна, когда сквозь оконные стекла толкался серый простор, и в нем едва угадывалась хата Якова Нагнийного, Матвеевский бугор, Белоусов берег, и плыли словно бы из-за того бугра какие-то люди, похожие на ржавые тени, подплывали, как бессильные рыбы, к окнам хаты, шевелили беззвучно губами по ту сторону окна, плакали, скребли черными пальцами по стеклу, пугали маленького мальчика, съежившегося на печи, о чем-то молили, а потом сползали куда-то вниз, точно тонули», – вспоминает он весну 33-го в «Разгоне».
«Село у нас было очень большое, оно протянулось вдоль Днепра на 10 километров, целый казачий поселок. И две трети села, это примерно 7 тысяч человек, умерло. В той стороне, где мы с мачехой жили, осталось всего две-три хатки. Вымирали семьями…
Ели затолоку из кукурузных кочанов и курая – полевой травы. Собирали желуди… Удивительно: у нас, воспитанных в православной вере, так много табу в отношении пищи! Китайцы, как мне довелось видеть, едят абсолютно все, что ползает, летает и плавает. А наши люди умирали, не позволяя себе есть лягушек, насекомых, грызунов. И когда сейчас некоторые исследователи голодомора настаивают на том, что у нас процветало людоедство, это меня возмущает. Могло быть несколько фактов каннибализма на всю Украину, все остальное – домыслы. Люди умирали от голода как-то покорно и тихо. Так же смиренно, как сейчас живут. У нас очень терпеливый народ…»