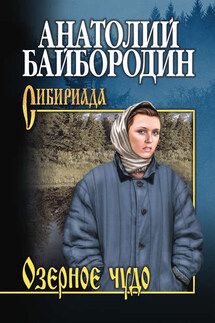Перед будущим - страница 56
После паузы, которую мой собеседник потратил на пару широких и красивых взмахов кисти по мольберту, он со вздохом продолжил:
– А тот, кто тут жить остаётся, типа меня, тоже постепенно проникается местным духом. Здесь у каждой шиномонтажки есть свой дух-покровитель. И амулеты в Росреестре висят.
– А вот ещё – сказал я, – в конкурсной документации в составе купленного нами лота упомянут ещё участок в горах. Как бы долина. Площадь есть, а привязки к кадастровой карте нет.
Совет, правда, я получил уже знакомый.
– Да вы сначала посмотрите, что собрались оформлять!
Чтобы не возбуждать излишнего любопытства, я под видом туриста отправился на следующий день в ближайшее село, где снова был поражён размахом цивилизующей туристической деятельности. Обилие музеев(четыре), всякие услуги на конях и без. Прежде чем договариваться с кем-то из местных насчёт тура к интересующему меня месту, я решил осмотреться.
Для разбега зашёл в музей Рериха.
Я уже бывал в их главном музее в Новосибирске.
Сторонники этой до конца не вылупившейся проторелигии (как еще её назвать) и тут пылко продвигали своё дело, чем отчасти напоминали моих нынешних работодателей. Рерих действительно останавливался в этом селе – на целых двенадцать дней, и успел обогатить местную и мировую культуру двумя эскизами Белухи. Этот сильный человек тут искал Шамбалу. (Беловодье на местном сленге). Прошёл, между прочим, двадцать пять тысяч километров, едва не погиб, в том числе на тибетской таможне, и вместо Шамбалы (Беловодья) открыл научно-исследовательский институт в Индии – в прохладном местечке.
Другой музей располагался в маленьком старообрядческом древнем доме с поэтичным названием «связь». Вместо калитки – «переходики». Это такие две наклонные досочки по обе стороны тына, по которым люди и попадают туда и сюда.
Музей обслуживала некая Лариса Галактионовна, бывшая местная учительница, ныне писательница, использующая в этом своем деле сказания алтайской старины и местные поговорки. «Красавица без ума, что кошелёк без денег». «Муж и жена бранятся, да под одну шубу ложатся». «Мужа пьяного не ругай, а скажи ласково: здравствуй, Христов оладушек!»
И все такое прочее.
Ещё она рассказала, что именно отсюда староверы уходят искать Беловодье, то место, где «калачики на деревьях и молочные реки». Некоторые, возвращаясь, рассказывали, что уже слышали в тумане крики скотины и петухов, звон колоколов. Но не далась удача, пройти дальше не могли. Одна только некая Соколиха (не случайное имя) будто дошла до желаемого и теперь из того Беловодья весточки шлет родственникам: мол, все в порядке, живу хорошо и налоговых органов тут не имеется.
Короче, я понял, что с местными надо держать ухо востро.
Музей самоцветов пропустил, зато в числе группы питерских туристок и одного китайца с переводчицей затесался на экскурсию, которая так и называлась «В поисках Беловодья». Наврал, что фанатею от Рериха.
Стартовали сразу и на конях. Легко поднялись на ближайшую гору. С трудом перевалили. Через несколько вёрст покормили нас на летней дойке. Тут, правда, выяснилось, что экскурсия рассчитана на два дня. Это меня неприятно поразило, но что делать? Зато проходила экскурсия буквально в версте от интересующего меня места (судя по координатам ГЛОНАСС).
Спасибо китайцу с переводчицей, они пустили меня в свою палатку. Иначе так бы и караулил ночь у костра или ночевал с девушкой-гидом, крепко сложённым мастером спорта по туризму, похожей на снежного человека. А это ещё страшнее питерских туристок.