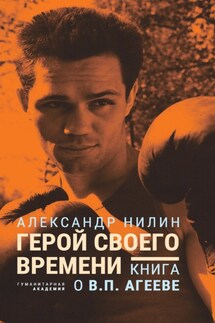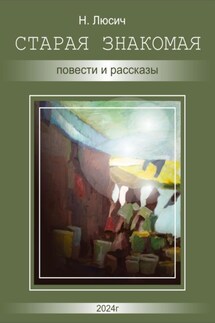Переделкино: поверх заборов - страница 32
Я бы назвал последнее письмо Фадеева последней литературной его неудачей.
То, что губило в нем писателя, произошло и когда сочинял он последнее письмо: возобладал в Фадееве государственный человек. И пишет он, то ли желая, то ли опасаясь, что обиду прочтут между строк, о плачевном положении в искусстве и литературе из-за невежества высших сановников…
Не получалось письма – ничего не мог он объяснить ни себе, ни давно выбывшим адресатам. Для того письма, какое бы он хотел – и умел когда-то – написать, не находилось точных слов.
Он понял, наверное, с безнадежностью, что, впиши он новые строчки вместо вычеркнутых, разорви вовсе письмо и возьми чистый лист, ничего уже не изменишь – не сможет он сейчас на чистом листе сочинить ничего нового.
И я представил себе совсем отчетливо, как той же рукой, что сердилась на не подчинявшееся ей перо, он спустил курок револьвера.
Очевидную депрессию отца в последние годы жизни легко было объяснить осознанием упущенных шансов.
Но и для меня, когда прочел я после смерти отца его дневники, неожиданным оказалось признание, что депрессию он испытал уже в конце пятидесятых, когда времени на перемены в себе оставалось не так уж и мало – больше двух десятилетий.
В дневниках отец не пытался объяснить причин депрессии – и я попробовал сопоставить не особенно заметные приметы ее в отцовских записях с тем, что сам помнил о той поре.
Помнил я ту пору хорошо, но впечатления мои о жизни родителей не могли быть регулярными. Они жили в Переделкине круглый год, а я старался подольше задерживаться в городской квартире для веселых встреч с приятелями.
Разобраться во внутренних причинах всякой, и родственной тоже, депрессии так же маловероятно, как и в случаях самоубийств.
Искать опору в генетическом сходстве своего характера с отцовским – чувствую, что есть оно, – можно и следует, но и особенно обольщаться не стоит. Мы жили с ним все-таки в разных сюжетах – и трудности преодолений бывали разными, и везение одного совсем не обязательно приходилось на везение другого.
Начнем с перепада происхождений: он сын каторжанина, а я только внук (с примесью инородной материнской крови).
Правда, лень, в большой степени наследственная, помешала мне существенно воспользоваться гуманитарными преимуществами сына писателя перед сыном кузнеца: не могу сказать, что так уж сильно продвинулся я в знаниях, чтобы опять же преимущество в знаниях (оно весьма незначительно) принесло пользу. Или вред.
В середине девяностых (отец умер осенью восемьдесят первого) Анатолий Рыбаков, обсуждая с моей женой отца, отозвался о нем совсем неплохо, но выразил сожаление, что Нилин всего боялся.
Более доброжелательно относившиеся к отцу люди, Юрий Трифонов например, склонны были говорить не о страхе – об осторожности. Трифонов к тому же приводил при этом пример поступка, свидетельствующего обратное: отец подписал привезенное ему Юрием Валентиновичем письмо в защиту Твардовского и никаких колебаний не выказал.
Летом шестьдесят четвертого года на том месте прогулочного круга, где, спустившись вниз (спуск этот в моем детстве назывался “бешеной горкой”, но мне всегда слышалась “бешеная гонка”, поскольку разгонялся здесь велосипед), аллея классиков (улица Серафимовича официально) сворачивает на улицу Горького, мы (я шел с отцом) встретили Анатолия Рыбакова со второй его женой Натальей Давыдовой – и Рыбаков сразу после приветствий настоятельно посоветовал отцу прочесть в “Новом мире” свою повесть “Лето в Сосняках”.