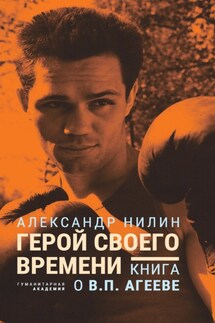Переделкино: поверх заборов - страница 38
Вадим изображать смельчака не стал – подмигнул: “Я кое-что уже знал”.
Знал, надо полагать, кое-что о происходившем наверху, ну и правило Охлопкова вряд ли осталось ему неизвестным.
Кожевников не был чужд некоторого редакторского авантюризма – для чего и завязывались связи наверху, связи для расширения трехминутной щели (когда другим журналам нельзя, а твоему вдруг можно, только в благодарность за такие разрешения печаталось много всякого дерьма).
Кожевников попал в начальство примерно в то же время, что и Симонов, блеском и славой Константина Михайловича не располагал, но с пользой для себя съездил по заданию верхов в Китай – и вообще с войны входил в редколлегию “Правды”, а затем и в секретариат Союза писателей, возглавляемый Фадеевым.
Журнал “Знамя” Кожевников получил после Вишневского. Но журнал под эгидой политуправления армии после войны популярность утрачивал, от “Нового мира” отставал.
Потому и схватился Кожевников за “Жизнь и судьбу” Гроссмана, что рассчитывал, своими связями заручившись, вставить фитиль не любившему его со времен войны Твардовскому.
Отец рассказывал мне, как пошли они втроем в гости к знакомому Твардовского, генералу, выпивали там – Твардовский стал читать им не опубликованного еще “Василия Теркина”, главу “Переправа”, и Кожевников был уязвлен какой-то его репликой насчет не очень-то и больших его, Кожевникова, способностей (отцу Александр Трифонович великодушно сказал: “В тебе хоть что-то есть, но Вадик-то вообще никакой…”).
Кожевников помнил, как отрекался Твардовский от Гроссмана при Сталине (тем не менее Гроссмана опубликовав) и как потом им с Фадеевым было неловко, что они согласились с критикой романа, который на самом деле им очень нравился.
Но возможности Гроссмана Кожевников недооценил – и, начав читать новый роман, ужаснулся.
Не только тому ужаснулся, о чем впервые рассказал столь правдиво Василий Семенович, а, главное, тому, что понял, во что обойдется ему и его журналу не намек даже на возможность публикации, а сам факт, что роман оказался у них в редакции.
И сделал единственно возможный спасительный ход: сдал Гроссмана, оправдав себя перед верхами, – роман оказался в ЦК и КГБ.
Прошло не больше года после истории с Гроссманом, как Твардовский в “Новом мире” напечатал Солженицына.
Что же? Ситуация снова изменилась – наступили, как всегда жданно, но негаданно, три минуты послаблений – и редактору Кожевникову волосы на себе надо было бы рвать за свой поступок – не из раскаяния, конечно (начальство не ошибается, даже ошибившись во всех своих делах), а из-за редакторской промашки: “Новый мир” опять был на несколько голов впереди.
Нет, Кожевников мог спокойно спать у себя на даче по улице Лермонтова в Переделкине: на великий роман Гроссмана правило трех минут не распространялось.
Я и такое слышал: “Убери из «Жестокости» выстрел – и ничего примечательного в ней не останется”.
Но выстрел был изначально и в старом рассказе – выстрел комсомольца в себя из-за любви (он и назывался “О любви” – у Фадеева, кстати, тоже был под таким названием рассказ или, может быть, отрывок из чего-то, опубликованный после смерти автора в “Юности” Катаева).
Никто тогда ни выстрела не запрещал, ни рассказа не запомнил.
В культовой, как теперь говорят, книге “Как закалялась сталь” Павка Корчагин в минуту малодушия, как считает Николай Островский (и вслед за ним все изучающие “Сталь” по школьной программе вынуждены считать), наставляет на себя револьвер.