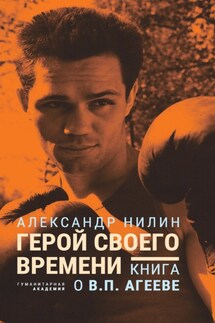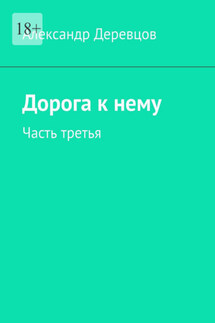Переделкино: поверх заборов - страница 44
Нет, не ревновал войну к Симонову Лазарь Лазарев – признавал превосходство и первенство Симонова.
И все же подметил очень существенную писательскую особенность Симонова. Лазарев рассказывал, что, когда увидел Симонова впервые, удивился, до чего же тот похож на своих героев. Но когда познакомились они поближе, критик понял, что многое от героев Симонов в себя привносит. Поняв, что понял больше, чем полагалось ему понимать, раз взялся быть присяжным исследователем, Лазарь спохватывается – и добавляет, что привносит он в себя от героев многое для того, чтобы стать еще лучше.
Но русская литература примеров для подражания не пишет, и в этом ее главное отличие от литературы советской, которой обязательно нужен образец, предмет для восхищения – и скажем прямо: литература примера приносила нашим писателям успех, а Симонову еще и славу свидетеля, с натуры писавшего свои портреты генералов. Он не кривил душой, он был в самом искреннем от них восхищении – и сумел это восхищение передать. Другой наш сосед, очеркист и тоже сталинский лауреат Борис Агапов, начинавший как поэт в группе конструктивистов у Ильи Сельвинского, тоже жителя Переделкина, к стихам Константина Михайловича (уже на политические темы) относился строже остальных – и записал в дневник: “Костя читал стихи, и весь зал был в восторге. Я подумал, может, Костя знает то, чего я не знаю. Но потом я подумал: а может быть, Костя не хочет понимать большего, чем понимают все эти люди?”
Знал бы я, что Агапов еще в сороковые годы выскажет мысль, объясняющую причину большинства литературных успехов, присмотрелся бы к нему внимательнее. А так – только и помню человека с большой лысой головой, не казавшегося мне особенно приветливым. С другой стороны, стал бы он со мною откровенничать? Да и некорректным всегда кажется, рассуждать о причинах успеха знаменитого писателя, если знаешь пути к успеху, но сам по ним далеко не продвинулся. Кто же станет всерьез слушать тебя, а не того же Симонова, не пожелавшего понимать больше, чем способны усвоить читатели.
Гоголь вынимал из себя и Манилова, и Ноздрева, и Собакевича, да и вообще всех, включая Хлестакова. Ну и кто же хочет узнавать в себе Ноздрева? Вообразить себя героями Симонова читателю куда более лестно.
Серова и Симонов на том и разошлись, на чем сошлись.
Валентина Васильевна и любила – неизменно, начиная с Толиного отца, Героя Советского Союза Серова, соперника Чкалова, – всегда успешных, брутальных мужчин (у нее и в театре романы были возможны с артистами на роли героев). И молодой Симонов, все делавший, чтобы стать неотличимым от мужчин подобного победительного типа, некоторое время – и с такими-то стихами – ей соответствовал.
Возможно, не стань ее военным избранником Рокоссовский, ревность бы душила Константина Михайловича – и ей (точнее, им обеим – ревности и Валентине Васильевне) он мог бы быть обязан новым прорывом в поэзии. Отвлекся бы от героической ноты ради возродившейся лирической.
Но при Рокоссовском этого не смогло произойти: Рокоссовский был типичным симоновским героем, и Симонов не сумел почувствовать того, что почувствовал бы к герою другого романа.
Когда Серова и Симонов жили в послевоенном Переделкине, они наверняка бывали на фадеевской даче – и мне кажется очень интересным представить возможную встречу двух жен-артисток.
Жена Фадеева Ангелина Осиповна по типу своему никак не годилась ни на роль девушек с характером, ни на роль чуточку недотепы-математика, возлюбленной американизированного офицера в исполнении героя из героев Евгения Самойлова. В кино артистку Степанову в молодости вообще не снимали – красавиц, социально не заземленных, советскому экрану не требовалось.