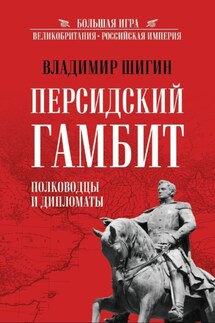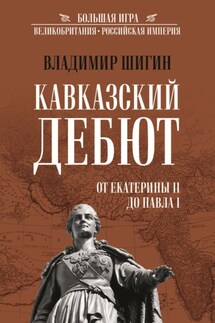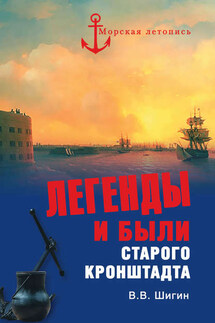Персидский гамбит. Полководцы и дипломаты - страница 54
– Следуем к острову Сара, что у Ленкорани, – объявил Завалишин, – хоть поможем дружественному нам шагазскому хану вывести в пределы российские четыре тысячи его семейств, изъявивших желание принять наше подданство.
– Курс на Ленкорань! – объявил своим капитанам Веселаго. – Митрий, разворачивай карту соответственную!
Вооружившись циркулями, офицеры быстро определили курс и время перехода.
– Скоро будем на месте! – доложили мрачному Завалишину.
Паруса русских судов еще не исчезли с морского горизонта, как под стены Баку прибыли дербентский и хамбутайский владетели, чтобы уже не воевать, а лишь торжественно вступить в город.
Вскоре флотилия уже подходила к острову Саре. Но и там бедного Завалишина ждала неудача. Более двух месяцев стоянки у ленкоранских берегов ни к чему не привели. Шагизцы так и не появились.
Как оказалось впоследствии, талышинский хан просто не разрешил им проход через свои земли, боясь мести со стороны персидского шаха.
От Ленкорани Завалишин отослал отчет о своих действиях Цицианову, а также захваченные под Баку знамена. «Пылкий» Цицианов, прочитав послание подчиненного и увидев его трофеи, пришел в бешенство.
Из письма Цицианова Завалишину: «С получением знамен, взятых вами у бакинского хана, я устыдился, и еще сто крат стыднее бы мне было отправить их к высочайшему двору, ибо одно из них сделано из бахчи – платка, в который торговцы завертывают; другое – из онучи, которой персияне обвертывают ноги вместо чулка; а третье – холстинное, лезгинского покроя, но самого низкого. Знамена я здесь брал, но ни одного такого не видел. Не могу вам не заметить также противоречия, замеченного в ваших рапортах, в которых вы говорите, что подполковник Асеев от вас нигде не отставал, а по реляциям вашим вижу, что он везде впереди вас был и все берега занимал. Во всяком случае, вам лучше бы было и не свозить десанта, тогда бы хан счел, что вы приезжали только его постращать, а войска назначены были против Решта и сие заключение было бы для вас гораздо полезнее, чем взятие двух пушек и трех знамен храбрейшим из храбрейших Асеевым».
Справедливы ли были обвинения Цицианова? По большей части, думается, что нет. Завалишин, разумеется, потерпел неудачу, которая сразу же негативно сказалась на перемене отношения к нам всех закавказских ханов. Но серьезных ошибок он нигде не совершил, просто так сложились обстоятельства. Да и сил для решения поставленных перед Завалишиным задач было явно недостаточно. Так, в Персидском походе Петра I в 1722–1723 годах участвовало до 37 тысяч войск, а в Персидском походе Зубова в 1796 году до 35 тысяч. Что мог сделать Завалишин со своей горстью солдат?
При этом он поступил благоразумно, не дав уничтожить свой отряд ни под Рештом, ни под Баку. Победным поход его не получился, но и поражения не произошло.
Цицианов был человеком вспыльчивым и резким, но в то же время и отходчивым. Спустя некоторое время он успокоился и уже в письме императору ходатайствовал о награждении генерал-майора Завалишина за боевые действия в кампании 1805 года орденом Святой Анны 1‑го класса с алмазами. Помимо этого, особо просил Александра I обратить внимание на храброго подполковника Асеева.
А затем Цицианов принял самое роковое в своей жизни решение. Он приказал Завалишину свезти войска с судов на Апшеронский полуостров и пешим порядком следовать снова к Баку. Кроме этого, Цицианов направил к непокорной крепости и почти две тысячи солдат из других отрядов. Отправился он туда и сам, чтобы лично завершить то, что так неудачно начал Завалишин. Прежде всего, надо было уменьшить недовольство итогами кампании в Петербурге. Подчинив Ширванское и Бакинское ханства, наместник надеялся получить от Тегерана мир, установив границу между империями по рекам Куре и Араксу.