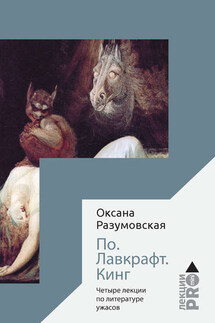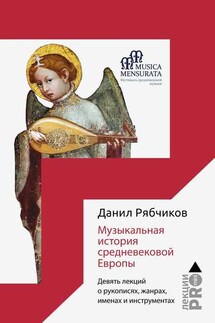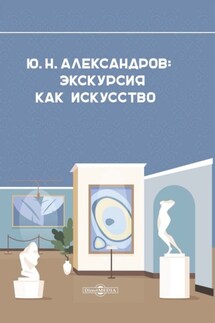По. Лавкрафт. Кинг. Четыре лекции о литературе ужасов - страница 4
Богатый фольклор Британских островов, построенный на смешении германских, скандинавских и кельтских мифов, в течение долгого времени снабжал писателей и художников этой страны леденящими душу байками о детях-подменышах, коварных гномах и обольстительных водяных девах, завлекающих доблестных юношей в пучину гибели. Народная традиция страшных историй подпитывала сочинителей самых разных эпох – она вдохновляла Шекспира и его современников, английских романтиков, авторов святочных рассказов диккенсовского периода, модернистов и так далее. Даже Джон Милтон (1608-1674), представитель радикального крыла пуритан, в одной из своих ранних поэм не без ностальгического умиления перечисляет ряд популярных в простонародье фольклорных сюжетов, составляющих, с его точки зрения, неотъемлемую часть того неуловимого, но дорогого сердцу каждого англичанина мифа, который называют «старой доброй Англией»:
Милтон и сам внес немалый вклад в национальный фонд литературных ужасов: его главное творение, эпическая поэма «Потерянный рай» (1667), в завораживающих подробностях изображает низвержение Люцифера в преисподнюю и создание адского чертога – Пандемониума, населенного падшими ангелами, превратившимися в демонов. Хотя Милтон писал «Потерянный рай» с вполне конкретной (и отнюдь не развлекательной) целью – «пути Творца пред тварью оправдать»[15], – многие поколения читателей, начиная с романтиков, восприняли поэму как апологию Сатаны, который представлен в поэме волевым и харизматичным персонажем, затмевающим даже подлинных протагонистов произведения – Иисуса, Сына Божьего, и Адама с Евой.
Популярность «Потерянного рая» в Англии (как и за ее пределами) отчасти объяснялась растущим интересом читателей к мистической и оккультной тематике, который коренным образом противоречил распространявшемуся в Европе рационализму и наукоцентризму. Культ разума, насаждаемый просветителями, подразумевал борьбу против зол этого, а не иного, мира – сословного неравенства, тотального невежества, религиозного обскурантизма и нарушения политических и гражданских свобод. Однако массовая аудитория не торопилась отказываться от своих любимых «неправильных» – иррациональных и фантастических – сюжетов и образов. Англичане никогда не упускали возможности хорошенько пощекотать себе нервы[16]. Даже популярные в Англии детские считалки и песенки, известные как «Стихи Матушки Гусыни», уходящие своими корнями в устное народное творчество, содержали немало таинственных и зловещих образов, которые и взрослого читателя могут заставить задуматься или суеверно вздрогнуть[17].
В британских средневековых легендах и рыцарских романах, в трагедиях елизаветигщев и яковианских драматургов всегда находилось место мистике и фантастике. Ведьмы из шекспировского «Макбета» и «Бури», призраки из «Гамлета» и «Юлия Цезаря», Мефистофель из «Трагической истории доктора Фауста» Марло, не обретшие покоя духи из ренессансных «кровавых трагедий» – лишь небольшой список примеров, которые демонстрируют живой интерес к потусторонней тематике, присущий англичанам. Он оказался не чужд даже коронованным особам