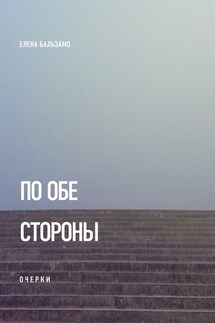По обе стороны (очерки) - страница 5
То, что происходило дальше, видимо, уже не предназначалось для детских ушей. В январе 1924 года бабушка все еще находилась в заключении на Соловках, так как, по ее словам, именно там она узнала о смерти Ленина. В прачечной. (Интересно, что она там делала – стирала на себя или ее все-таки принуждали работать?) А что было потом? Новый арест? Один или несколько? Новые приговоры? От всей второй половины 20-х годов не осталось ни одной даты, ни одной зацепки. Единственная подробность в чудом сохранившемся письме, написанном много лет спустя неизвестному адресату: «Когда-то в Верхнеуральске я вот так писала одному человеку. И хотя мы жили под одной крышей и даже в одном коридоре, мы никогда не видели друг друга, никогда не разговаривали». Как она оказалась в этом городе за 1700 км от Москвы? О каком времени идет речь? Ни один нормальный человек по своей воле туда не поедет – однако верхнеуральский политизолятор был хорошо знаком очень многим, количество заключенных, прошедших через его камеры, исчислялось десятками тысяч.
Шли 20-е годы, эпоха «Большого пасьянса», по выражению Солженицына: реальных и мнимых «врагов советской власти» арестовывали, судили, ссылали, по отбытии ссылки снова арестовывали, снова судили, снова ссылали в места отдаленные, с трудом вообразимые… Похоже, что, как и в случае многих других социалистов, на бабушкину долю достались главным образом ссылки. Ашхабад, Ташкент, Йошкар-Ола – эти места она иногда упоминала. Я помню ее рассказы о тюльпанах, покрывавших весной туркменскую степь разноцветным ковром, – больше не помню ничего, видимо, остальное тоже было не для детских ушей.
В эту эпоху, если судить по пометке на обороте одного из редких снимков, которую невозможно проверить, состоялось ее знакомство в моим дедом. Начало 20-х годов. Дед, 18 лет от роду, только что окончил школу в родной Вологде и, чтобы отпраздновать радостное событие, отправился играть с одноклассниками в футбол. Затея оказалась крайне неудачной: кому-то из местного Чека, не справлявшегося с выполнением разнарядки по ликвидации анархистов, пришла в голову блестящая мысль – арестовать выпускников-футболистов. Сказано-сделано, забрали всю команду. Богатый улов.
За арестом последовали суд и высылка, очевидно куда-то на восток или на северо-восток. Дед, который в момент ареста не имел ни малейшего представления о том, кто такие анархисты (впоследствии, однако, он никогда не отрекался от своей к ним принадлежности – мне кажется, из чувства собственного достоинства, из гордости), оказался в ссылке в полном одиночестве. Ситуация была отчаянная: в одиночку выжить в таких условиях было практически невозможно. Спасением он был обязан группе «врагов народа», тоже ссыльных, которые подобрали опасного анархиста буквально на улице, приютили и выходили.
В дальнейшем дед уже автоматически становился жертвой следующих туров «Большого пасьянса», попадая из ссылки в ссылку, в места одинаково мало пригодные для жизни, но отныне, благодаря системе взаимопомощи политических ссыльных, у него появилась надежда выжить. В конце 20-х годов он оказался в Йошкар-Оле, как и бабушка. В 1931 году они поженились.
Что могло привлечь надменную панночку, которой Москва казалась захолустьем по сравнению с ее европейской Лодзью и у которой не было отбоя от поклонников, в ничем не примечательном застенчивом юноше из самой что ни на есть пролетарской семьи (отец попивал, мать работала банщицей в городских банях)? Дело в том, что их женитьбе предшествовала драма. Бабушка полюбила одного из «своих», молодого философа, отбывавшего ссылку, которого вскоре арестовали повторно и впоследствии расстреляли. Он и был ее настоящей любовью. Любила ли она человека, за которого вышла замуж? Не думаю. Во всяком случае, сыну своему она дала имя того, с кем ее разлучили.