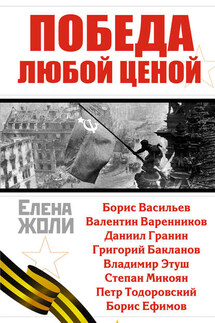Победа любой ценой - страница 14
Е.Ж.: А во время блокады дети ходили в школу?
М.В.: Мои приятели ходили в школу потому, что там давали суп, бедную похлебку из муки или крупы. Практически уроков в школе не было. Однажды наша учительница упала со стула, рухнула на пол как мертвая. Невозможно было ее поднять, хотя мы все вместе пытались это сделать, но у нас не хватало сил. Где-то мы нашли простыню, в которую хотели ее завернуть. Но тут она открыла глаза и сказала: «Дети, я хочу прожить еще несколько часов. Оставьте меня».
Я была первой отличницей в классе и на Новый год получила подарок – билет в театр. Не помню, какой был спектакль, но никогда не забуду ту манную кашу, которую нам дали после представления. Она казалась необыкновенно вкусной, это было настоящее счастье! В зале было очень холодно. Артисты ходили по сцене с видимым усилием.
Великий композитор Шостакович, живший по соседству с нами, написал тогда свою «Седьмую симфонию». Первый раз ее играл Ленинградский филармонический оркестр во время блокады.
Е.Ж.: Какие связи оставались у осажденного города с «Большой землей»?
М.В.: Нашей единственной связью было радио. Оно работало круглые сутки, мы никогда его не выключали. С нетерпением ждали сводок Совинформбюро, в которых сообщалось о том, что происходит на фронте. Между новостями только звук метронома продолжал связывать нас с внешним миром.
Немцы с Пулковских высот видели город как на ладони. Действительно, это было чудо, что они не смогли занять город. В общем, это был уже не город, а передовая линия фронта. Во время бомбежек молодежь не укрывалась в убежищах. Я поднималась со своими товарищами на крышу тушить зажигательные бомбы. Для этого на крышах были установлены баки с водой. Иногда мы тушили пожары матрасами и одеялами. Это был повседневный героизм, ничего показного. Город не сгорел только потому, что люди, рискуя жизнями, дежурили на крышах и тушили возникающие пожары.
Мы были похожи на дикобразов – грязные и нечесаные, но самым ужасным были наши черные распухшие лица. Мы жгли моторное масло в блюдцах с ватными фитилями, чтобы иметь хоть какое-то освещение. От них шел коптящий дым, а помыться было недоступной роскошью.
В конце февраля 42-го года нас эвакуировали из Ленинграда по льду Ладожского озера, по «дороге жизни». Ее только что открыли. Немцы делали все, чтобы помешать населению покинуть город. Бомбили дорогу днем и ночью. Грузовики проваливались под лед, люди погибали. С большим трудом мы добрались до вокзала, где нас ждали поезда.
Е.Ж.: Как устроилась Ваша жизнь в тылу?
М.В.: Сначала мы жили на Северном Кавказе. Но немцы в 42-м году сильно продвинулись на восток, и мы по Военно-Грузинской дороге поехали в Баку. Там происходило нечто неописуемое. На набережной собралась огромная толпа. Все хотели сесть на пароходы, которых было явно недостаточно. Люди толкали друг друга, падали в воду с чемоданами. Все рвались на другой берег Каспийского моря, в Красноводск. Но в конце концов мы нашли пристанище в Киргизии.
Санитарные условия были настолько ужасными, что люди начинали болеть давно забытыми инфекционными заболеваниями. Мама пыталась найти мою сестренку, которая тоже была с дядей где-то в Башкирии. Когда мы наконец встретились, она забыла русский язык и говорила только по-татарски, нас не узнавала и не хотела верить, что я ее сестра.
В 44-м году мама как врач смогла получить специальное разрешение вернуться в Ленинград. Город стал совсем другим. Тысячи домов были разрушены, повсюду зияли разбитые окна. К счастью, многие памятники уцелели: дома, которые имели особую историческую ценность, во время блокады были тщательно закамуфлированы специальной сеткой, создающей впечатление лесного массива. А вот окрестности Ленинграда – Петергоф, Царское Село – сильно пострадали. Сегодня все восстановлено и имеет такой же вид, как до войны. Когда отреставрированную статую Самсона везли по улицам, люди плакали. Однажды я встретила на улице девчонку, которая украла у нас продуктовые карточки. Увидев меня, она бросилась бежать. Мне кажется, я могла бы ее убить. Из нашего класса только трое ребят остались в живых. Остальные умерли от голода.