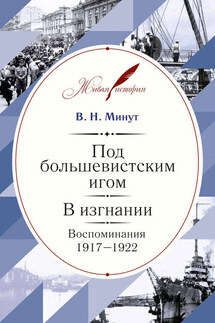Под большевистским игом. В изгнании. Воспоминания. 1917–1922 - страница 43
Забегали домовладельцы в поисках денег. Некоторым из них удалось раздобыть деньги, и выполнить декрет, и, следовательно, сохранить за собой дома, другим же нет. Но вот через два месяца дома национализируются все без исключения, невзирая на то, вносил ли владелец налог или нет. В результате все домовладельцы потеряли дома, разница заключалась лишь в том, что исполнившие декрет потеряли, кроме домов, и деньги, не исполнившие же остались хотя при деньгах.
Кстати, скажу два слова о составе волостных комитетов, получивших абсолютно неограниченную власть в деревне. Состояли они из местных жителей, но из числа бывших подонков деревни, поднявшихся, как муть, на поверхность революционного моря. Здесь были все пострадавшие при прежнем режиме, без различия на политических и уголовных. Первые, главным образом из числа социалистов-революционеров, оставшиеся верными своим убеждениям, вскоре были выброшены, и остались только вторые. К ним примкнули хулиганы из деревенской молодежи и некоторые наиболее отрицательные типы из рабочих, вернувшихся в деревню из столиц. Все эти Мотьки и Ваньки, как их иначе раньше и не называли, превратились в Матвеев Михайловичей и Иван Ивановичей и получили должности комиссаров земельного, продовольственного, просветительного и прочих отделов. Крестьяне стали ломать перед ними шапки и величать их «вашей милостью», только друг друга они называли «товарищами». За глаза о них крестьяне говорили не иначе как со скрежетом зубовным, и не раз мне приходилось слышать от спокойных, уравновешенных мужиков такие заочные угрозы по адресу этих представителей советской власти, что жутко было представить себя в их шкуре.
Наконец, третья мера – введение коммун в деревне – до моего отъезда из деревни была еще в области предположений. Делались анкеты сочувствующих, причем оказывалось всякого рода давление для сбора большего числа подписей. Достаточно сказать, что безземельные, в случае отказа от записи сочувствующих коммунистам, лишались пайков. Не буду распространяться о том, какое впечатление произвела эта предполагаемая реформа, скажу лишь в двух словах: крестьяне в массе понимают ее не иначе как «я, дескать, буду работать, а сосед трубку курить, а затем, что наработаю – дели пополам». Вывод из этого: «на какого черта я буду работать для другого, буду работать в обрез только для себя».
Не могут себе представить крестьяне, каким образом обрабатываемая ими земля не будет принадлежать им, а будет общим достоянием. К чему он будет удобрять ее, если завтра она достанется другому. В прежней общине не было такой неустойчивости во владении известными участками, какая проектируется в коммунах.
Непонятными и действительно труднообъяснимыми представляются крестьянину исходящие из уездных комитетов распоряжения об ограничении количества домашних животных на каждого хозяина (по одной лошади, по одной корове, по паре овец и т. п.); казалось бы, чем больше скота, тем лучше; чем богаче крестьянин, тем более избытка он может дать городу, тем лучше может удобрить свою землю. Как это ни странно, но такое распоряжение действительно было. Я думаю, что это просто плод невежества исполнительных органов на местах. По всей вероятности, в центральном органе народного хозяйства было выдумано что-нибудь не столь несообразное, но затем, катясь вниз по иерархической лестнице, проектированная мера исказилась до неузнаваемости, а может быть, действительно, имелось в виду уничтожение богатых путем… превращения всех в нищих.