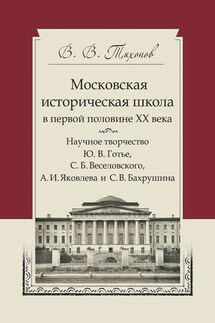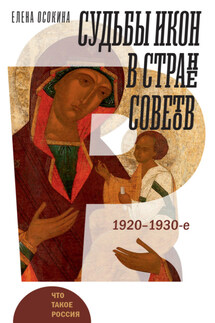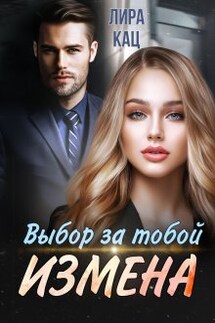Полезное прошлое. История в сталинском СССР - страница 2
Сталинское вмешательство в производство исторического знания хоть и носило регулярный характер, все же было ситуативным. Некоторые указания противоречили друг другу, особенно если их сравнивать на длительном временном отрезке. А главное – Сталин не мог дать указания абсолютно по всем вопросам, поэтому представления о тотальном контроле над историей являются сильным преувеличением. Оставалось много концептуальных и фактографических «пустот», на которые не пал взор генерального секретаря. С одной стороны, это создавало ситуацию неопределенности для историков («Что писать?!»), но с другой – оставляло пространство для относительно самостоятельного исследования.
Однако не Сталиным единым определялось развитие исторического знания. Самые влиятельные партийно-государственные деятели также могли вмешиваться в процесс. Более того, Сталин предпочитал, особенно в 1930‐е годы, представлять свою позицию как коллективное решение партии.
В СССР середины XX века ведущие ученые воплощали компромисс между наукой и властью. Сформировалась система (правда, ее зачатки можно обнаружить еще в дореволюционное время), в которой в каждом направлении исследований существовал один лидер, «генерал от науки». В исторической науке было несколько центров притяжения: Б. Д. Греков, И. И. Минц, В. В. Струве, А. М. Панкратова и т. д. Фактически это являлось проекцией на науку однопартийной советской политической системы. Лидеры выполняли ряд важнейших функций. Во-первых, контролирующую, поскольку их задачей было следить за состоянием вверенного им участка «исторического фронта». Во-вторых, они оказывались связующим звеном между партийными органами и сообществом ученых.
Ниже находились рядовые историки, не обремененные административными должностями. Именно на долю этих «рядовых исторического фронта» выпадало решение основных задач. Среда советских историков 1920–1940‐х годов была неоднородна. Одной ее частью были так называемые историки «старой школы», то есть ученые, окончившие еще дореволюционные университеты и сделавшие себе имя в науке еще до «эпохи исторического материализма». Их рассматривали как «старых специалистов» («спецов»), обладавших лоском европейской науки и культуры, необходимых большевикам на первых этапах становления нового общества, его науки и образования. Их оппонентами являлись так называемые историки-марксисты, то есть те, кто открыто манифестировал свою приверженность марксизму в его правильном, большевистском понимании (что бы это ни значило в каждый конкретный момент). Как правило, это были представители уже молодого поколения, члены партии, которые, согласно большевистской идеологии, должны были совмещать науку и практическую деятельность по реализации политики партии, причем в разных направлениях, вплоть до сельского хозяйства.
Властная пирамида не работала как часы. Сигналы, идущие сверху, из‐за их неопределенности и отрывочности специфически преломлялись в нижних ярусах, порождая дискуссии об их содержании и области применения. Власти, что вообще было типично для той эпохи, предпочитали давать только общие указания, оставляя свободу решения многочисленных конкретных вопросов непосредственным исполнителям.
Едва ли не главным инструментом утверждения «правильного» взгляда на историю являлись идеологические кампании. Под этим понимается интенсивная серия мероприятий власти, нацеленных на утверждение нужных идеологических постулатов. На протяжении всех 1920-х – начала 1950‐х годов масштабные идеологические кампании являлись частью обыденной жизни.