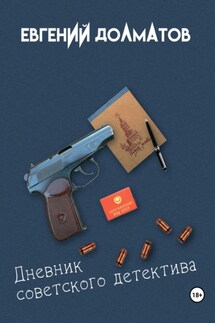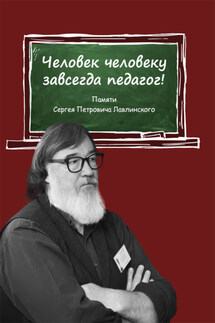Полковник милиции Владислав Костенко. Книга 5. Тайна Кутузовского проспекта - страница 3
Статьи серьезных экономистов и историков были альтернативны – не привычные плач и критиканство, но предложения выхода из кризиса, – поражали его смелостью: неужели это не читают в Кремле?! А если читают, то отчего не следуют рекомендациям ученых? Костенко взял чистый лист бумаги – по привычке статьи и обзоры конспектировал – и записал колонку: четыре часа – прочтение и анализ шифровок от послов из узловых столиц мира; четыре часа – изучение сводок по стране, особенно из республик (хотя, считал он, столичные амбиции влияли на информацию, что шла из Прибалтики – республик с трагической историей, – кто-то явно нагнетает страсти, причем не только с той, но и с нашей стороны. Зачем? Кому на пользу?); три часа – официальные приемы, переговоры; три часа – текущие дела, совещания со штабом, выработка стратегии – на завтрашний день, тактики – на сегодняшний вечер, ситуация такова, что считать надо минутами, не часами. Итого кремлевский рабочий день – четырнадцать часов. Вот и получается, что нет времени на журналы, ведь теперь и по субботам работают… Тут-то и начинается трагический разрыв между тем, что не доходит до кремлевских кабинетов, но зато впитывается сотнями миллионов читателей. У нас ведь так алчно читают не оттого, что мы какие-то особые, просто нечем себя занять. В бизнес не пробьешься, кругом запреты, индустрии развлечений до сих пор нет и в помине, рестораны плохи, дороги, а решишь пойти – места не сыщешь, в одном Париже кафе и ресторанов больше, чем во всем Советском Союзе. У нас принято бифштекс брать с водкой, а у них можно с чашкой кофе весь день просидеть за столиком; такого б клиента наши официанты в сортире утопили… Туризм? Нет его. Дансинги для молодежи? Раз, два – и обчелся… Вот и читают…
Костенко поначалу традиционно пугался слов «собственность», «выкачивание денег», «бессрочная аренда». В нем жило привычное отталкивание, вдолбленное с детства, которое на самом-то деле, признался он сам себе на пятом месяце библиотечной работы, есть некий генетический код привычного страха перед новым. Действительно, спросил он себя, когда я лучше работал и раскрывал дела, которые до меня лежали в архивах? Когда надо мной не стоял погоняльщик и не требовал ста справок каждый день. Ну а крестьянин? Что он, из другого теста сделан? Сейчас над ним бригадир, председатель, агропром, райком, райисполком, и все его учат, как хлеб убирать… Ну а дай ему волю? Продай землю? Сделай его свободным, как при Столыпине? Или нэпе? Тогда на кой черт ему погоняльщик? Дай магазин, чтоб принимал его продукт, и деньги за это плати… А куда ж администраторов девать? Если бы американский фермер отчет в исполком писал, а пуще того – в агропром, мы бы народ на хлебные карточки должны были посадить, мор бы начался… Всегда на Руси был управитель над мужиком, помещик, урядник, контролер: «семеро с ложкой, один с сошкой»… Сами отучили народ работать – жди команды сверху! Чего ж на несчастный народ валить? Сверху все видней… Сам держу все в руках… Самодержавие… Абсолютизм власти… А он, абсолютизм этот, всегда одним кончается – бунтом, особенно когда человек начинает осознавать свою уникальную неповторимость…
Костенко возрадовался, услыхав по телевидению, что теперь колхозам и совхозам будут платить за хлеб валюту. А фермеру? Арендатору? И тут же: «…объединения и главки помогут купить колхозам и совхозам то, что им требуется». Одну минуточку! А отчего председатель или тракторист не могут сами поехать за границу и купить то, что им надо? Снова бюрократия оттирает мужика от плодов его труда? Опять недоверие к личности? Государственное опекунство? Как же растить поколение тех, кто может сам принимать решение? – «Значит, государство все должно отдать мужику и работяге?! А что тогда делать аппарату?» – «Пенсию пусть получают! Царскую пенсию! Только б все напрямую было, чтоб не путалась страна в бумажках и отчетах, – погибнем!»