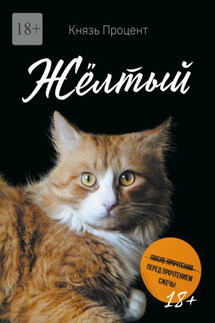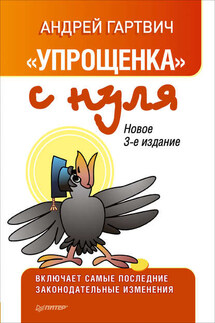Полтинник - страница 2
А Екатерина Смирнова представила образы природы, как вспомогательные, а в «выражении своих чувств через природу» [7] – выявила схожесть черт жаравинских пейзажей с чертами классической русской литературы.
Татьяна Жукова заострила внимание на теме трагического мироощущения поэта: «Вместе с Михаилом переживаешь его страдания, его болезни, его разлуку с любимым человеком, с любимым ребёнком» [8].
Ольга Коротина, рассмотрев жанры лирики, пришла к выводу: «Поэзия Михаила Жаравина имеет богатый и сложный состав»: гражданская, пейзажная, любовная, философская, значение которой – в «сердечной ране», как в диагнозе. «Будто убита в человеке какая-то часть его существа (вера? надежда?), и не живёт этот герой, а доживает, торопит свой конец» [9].
Анна Труфанова в статье «Лирика Михаила Жаравина. Моё прочтение» воссоздала портрет лирического героя – это: «человек огромного духовного и душевного богатства. Он может быть смешным, грустным, скрытным, замкнутым, но всегда искренним и глубоко чувствующим. А самое главное, он умеет любить, горячо, беззаветно. Пусть даже безответно». А. Труфанова, анализируя стихотворение «Животы сугробов похудели», близка к идее рыцарства в описании женского образа: «Автор рисует образ прекрасной девушки, которая не просто улыбается, а обжигает встречного своей улыбкой…» [10], но объясняет поведение героя властью над ним природных сил – «капелькой весеннего тепла».
Ольга Шопырева, сравнивая поэта и прозаика Жаравина, назвала поэзию «приземлённой»: «поэт часто опускается до бытовых, порою незначительных деталей, с упоением и почти документальной дотошностью описывает личную жизнь…». Характеризуя основную тему лирики, автор статьи указала на «конфликт между лирическим героем и его возлюбленной…», и на «конфликт героя с самим собой», а также объяснила причину творчества поэта: «печаль ему необходима, она играет для него роль вдохновения… Ни страх смерти, ни сладость любви, ни слава – ничто не может для многих авторов встать вровень с вдохновением» [11].
А Валерий Анохин в философском отклике на книгу «Сердечная рана» поразмышлял о жизни тела и души писателя: «Душа же устремилась к той, которая подобно русалке манит к себе. К призраку. К недосягаемой высоте…» [12], он тоже приблизился к нашей позиции, но завершил рассуждение гипотезой о желании писателя услышать «Божественное слово».
Анализ исследовательских работ, вошедших в сборник статей, показал, как глубоко были изучены прозаические и стихотворные произведения Михаила Жаравина. Но рыцарские мотивы в лирике исследователями так и не были обнаружены.
Мотивы рыцарства в лирике Михаила Жаравина.
Не отрицая предположения, суждения и умозаключения вышеупомянутых авторов, и не оспаривая их – докажем, что рыцарские мотивы в лирике Михаила Жаравина имеют место. И открыто или тайно подпитывают тему любви.
Первое стихотворение в сборнике «Сердечная рана» (С. 298) [13] настраивает нас на нужный регистр восприятия:
Дождёмся снега – он закроет раны,
Земля и души родственны вполне.
Мы чем-то наполняемся извне,
Когда перед собою цели ставим,
Когда летим по Млечному пути
К своей звезде далёкой, но прекрасной,
Когда идём тропинкою опасной,
Ещё не зная, что там, впереди.
Это стихотворение – как девиз, как напутствие самому себе и таким же как он – лирический герой Жаравина. Он отважен, отправляясь ли в путь «тропинкою опасной», или к своей прекрасной «звезде» – он полон надежд и вовсе не наивен. Как воин перед очередным боем с судьбой, с вечностью – он верит в порыв и достаточность собственных сил перед житейскими препятствиями на пути. Он ищет любовь, силуэт которой постоянно мерцает то в прошлом, то в будущем, но это – недосягаемая мечта, как звезда, прекрасная и далёкая, к которой хочется приблизиться. Отсюда и мощность в стремлении постичь любовь и пережить её заново.