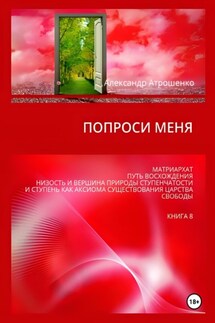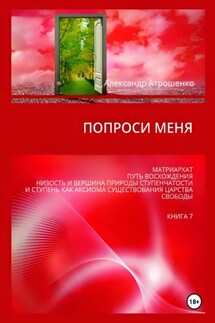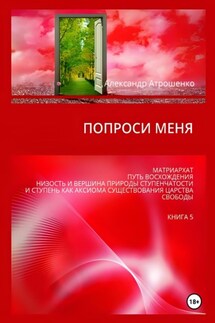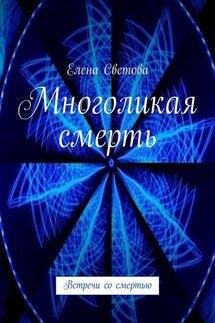Попроси меня. Т. V - страница 10
Вступив с «миром» в экономическую связь, выговцы должны были признать и его гражданские правоотношения. Но для этого приходилось уже пересматривать идеологию. И, когда в 1739 г. на Выг приехала правительственная комиссия производить следствие о выговской общине, те же самые Андрей и Семен Денисовы, которые ревниво оберегали своих «детушек» от антихриста, теперь стали во главе партии примирения с «антихристом». Эта партия после жарких прений одержала верх, и выговцы приняли все условия «мира» – и двойной оклад, и рекрутчину или откуп по 120 руб. с рекрута, и молитву за царя. Принятие последнего было мотивировано Семеном Денисовым в самых недвусмысленных выражениях, знаменовавший полный разрыв со старой идеологией: надо молиться за царя, «ибо мы живем на его земле, он охраняет нас от врагов, печется о внутреннем порядке, ограждает имущество и личности наши от чужого произвола». Меньшинство, не хотевшее измены прежним воззрениям, откололось от Выга, не желая более иметь ничего общего с теми, кто «зверевы указы паче евангелия облобызали», и пошло своею дорогой. Поморская же идеология продолжала эволюционировать все далее и далее в том же направлении.
Центром поморского согласия со второй половины XVIII в. стало Монинская Покровская община, сгруппировавшаяся вокруг московского купца Василия Емельянова, принадлежавший ранее к Федосеевцам. Название же свое согласие получило от имени родственника Емельянова Монина, на имя которого была куплена последователями Емельянова земля и дом под молельню. В этой общине выработались новые воззрения и новая практика культа. Раннее, пред лицом вечности, поморцы говорили, что благодать Божия взята на небо, и культ прекратился вплоть до второго пришествия. Теперь поморцы стали рассуждать иначе. Законная иерархия пресеклась, но пресеклась временно, как пресекалась ранее в эпохи арианства и иконоборства; возможно, что она и восстановиться. Монинцы опять интересовались исканиями архиерейства, предпринятыми с рогожцами, и участвовали даже в общем соборе поморцев и рогожцев 1765 г., созванного специально для разрешения вопроса об отыскании архиерея. Собор кончился ничем; был предложен только один фантастический проект – рукоположить архиерея рукою мощей митрополита Ионы, причем положенные молитвы вместо мертвеца должен был читать рогожеский поп. Но поморцы не хотели признать правильность рогожеских попов, да и весь проект показался большинству участников настолько сомнительным, что от него отказались, а другого способа не придумали. Монинцам пришлось остаться при том культе, который у них выработался «по нужде». Выборный наставник совершает в домашней молельне богослужение, состоявшее в чтении и пение молитв; из таинств совершалось только крещение, которое «по нужде» может совершаемо и мирянами. Больным оставался вопрос о браке. С тех пор, как поморцы стали жить в мире с «миром» и начали трудиться для прочного жития, а не для близкого страшного суда, заповедь воздержания от брака падала сама собой. Брак нужен, но кто же будет совершать таинство брака? Жить «без закона» нельзя, а «по закону» − нет возможности. Из затруднений поморцы вышли путем чисто рационального рассуждения. Брак установлен нерушимой заповедью Божей о размножении рода человеческого – заповедью, данного еще первым людям. До установления таинства брака в христианской церкви браки совершались и были правомерны, ибо использовалась заповедь Божия; значит и теперь, когда таинство брака совершаться не может, брак, как учреждение, все-таки может существовать. Был выработан особый «Брачный устав», стремившийся заменить церковную церемонию гражданским браком. Центр тяжести обряда был перенесен на традиционные домашние церемонии благословения жениха и невесты; за этими церемониями следовало, в качестве придатка, благословение наставника в часовни. Практика жизни вскоре заставила пойти еще дальше, когда явился вопрос о смешанных браках. Тут, под условием епитимии, было разрешено даже венчаться у православного священника и по православному обряду. В результате, поморское согласие превратилось в чисто буржуазную церковную организацию, несколько напоминающее протестантские общины. Сходство дополнялось тем, что, следуя авторитету Андрея Денисова, многие поморы придавали основное значение вере, а не обрядам и провозгласили «вольную волю» каждого человека в вопросах религии: каждый «самовластен» выбирать себе «путь спасения», какой хочет.