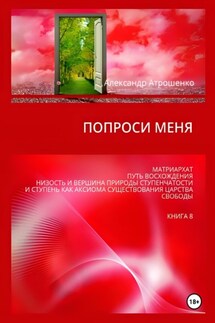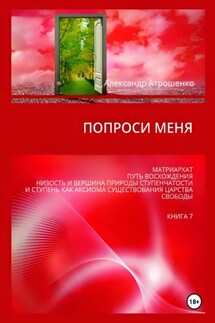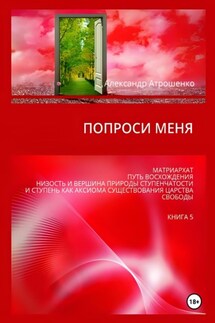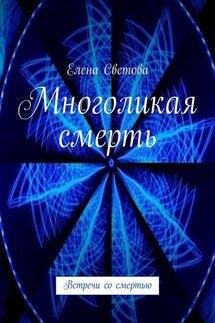Попроси меня. Т. V - страница 12
История трех указанных согласий тесно переплетается с историей российской буржуазии в XVIII в. Все они, так или иначе, сослужили службу российскому купечеству, обеспечивая ему успехи среди самых неблагоприятных условий, в век наиболее пышного расцвета дворянского владычества. Противоположность барина и купца в гражданской области соответствовала противоположность старообрядца и никонианства в церковной. Но еще более жестокой была противоположность барина и мужика, господина и раба. Она также рождала противоположность и протесты в различной сфере, и тем более непримиримые, чем хуже становилось участь крестьянина в XVIII в. Рекрутские наборы, подушная подать, паспортная система, размежевание земель, раздача государственных крестьян фаворитам – это все сыпалось на мужика сверху; в деревне с каждым годом увеличивались требования и власть барина, в целом ряде местностей исчезла крестьянская запашка, а крестьяне превратились в плантационных рабов. Оттого XVIII век проходит под знаком непрекращающихся крестьянских бунтов, то крупных, то мелких; так и в сфере религиозного протеста XVIII век знаменуется массовым бегством крестьян и появлением различных крестьянских течений-сект.
Наиболее типичное мировоззрение, тесно связанное с побегами крестьян, наблюдается в образовавшемся течении «духовных христиан» и возводит бегство в религиозный догмат; их так и называли бегунами. Основателем течения стал беглый солдат Евфимий, одно время находившийся под влиянием федосеевцев. Скоро поняв их «двоедушие», он основал собственное учение, оказавшееся приемлемой всем людям, попавшим в одинаковое с ним положение: беглым крестьянам, беглым солдатам, беглым преступникам, бездомным нищим.
Доктрина бегунов проста до чрезвычайности. Исходный пункт − старый мотив XVIII века в том, что с 1666 г. в Российском государстве воцарился антихрист. Антихрист царствует в преемственном роде царей, начиная с Алексея Михайловича и Петра. Алексей и Пётр – двурогий зверь, последующие цари – десятирогий зверь Апокалипсиса. Цари, в особенности Пётр I, извратили всю гражданскую жизнь своими указами. Бог сотворил все общим для всех, а Пётр пустил в ход дьявольское слово «моё», пересчитал живых и мертвых, разделил людей на разные чины, размежевал земли, реки и усадьбы и ввел, наконец, печать антихриста – паспорт. Цари, царствовавшие после Петра, еще более усугубили все эти антихростовые мерзости, и теперь «всюду вернии утесняеми, от отечества изгоняемы». Чтобы спастись от сетей антихриста, от его губительной печати, остается только одно средство: «таитися и бегати», стать странником, неведомым миру. Бегство спасет верного от идей антихриста, пока не настанет страшный суд. Тогда начнется открытая «брань с антихристом», всякий, кто во время этой брани будет убит, получит венец мученический, царские «златые палаты» будут сокрушены, насильники будут вопиять: «смолу и огнь я птю за прегордую жизнь мою», а страдальцы бегуны попадут в рай: «Там растут и процветают древа райские всегда, − Там рождают, умножают своего сладкого плода».