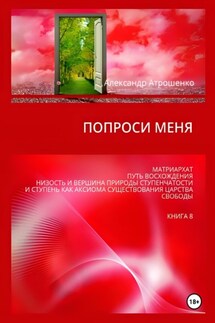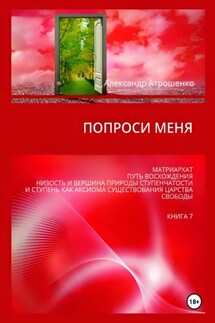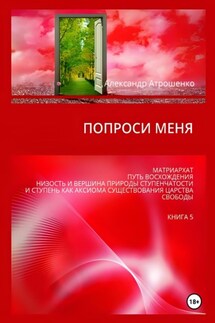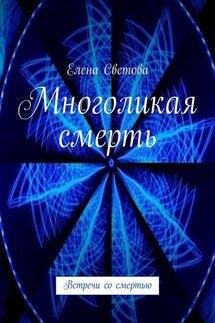Читать онлайн Александр Атрошенко - Попроси меня. Т. V
Повествование разворачивает события истории России с позиции взаимоотношений человека с Богом. Автор приподнимает исторические факты, которые до сих пор не были раскрыты академической школой, анализирует их с точки зрения христианской философии. Например, образование Руси, имеющей два основания – духовное и политическое, крещение, произошедшее далеко не в привычной интерпретации современной исторической наукой, которое следует правильнее обозначить крещением в омоложение, чем в спасение, в справедливость, чем в милость, «сумасшествие» Ивана IV Грозного, который всей своей силой олицетворял это русское крещение, вылившееся затем все это в сумасшествие Смутного времени, реформатор Никон, искавший не новых начал, а старых взаимоотношений. Показывается, как русская система сопротивляется силе ее цивилизующей, впадая тем в состояние, точно сказанное классиком – «шаг вперед, и два назад» – в свою молодость, чему яркое подтверждение служит деспотичное и в то же время реформаторское правление Петра I, а затем развернувшаяся морально-политическая эпопея трилогии в лице Петра III, Екатерины II и Павла I. В представленной публикации приводится разбор появления материализма как закономерный итог увлечения сверхъестественным и анализ марксистского «Капитала», ставшее основанием наступившей в XX в. в Восточной Европе (России) «новой» эры – необычайной молодости высшей фазы общественной справедливости в идеальном воплощении состояния высокого достоинства кристаллизованного матриархата.
В пятой книге заканчивается повествование о царствовании Екатерины II, рассматривается история революционных событий в Нидерландах, Англии, Франции, между Англией и ее североамериканскими колониями, описывается царствования Павла и Александра.
ПОПРОСИ МЕНЯ
5
ИСТОРИЯ РОССИИ И МИРА
В ФАКТОРЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
МИРОВОЗЗРЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ
ПРИРОДЫ БЫТИЯ, И ВМЕШАТЕЛЬСТВО
В ЭТОТ МИР ИЗОЛЯЦИОНИЗМА
БОГА-ТВОРЦА
ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА (продолжение)
И. БЕЦКОЙ. МАСОНСКИЙ ДУХ.
И. МЕЛИССИНО. «БЕГУНСТВО».
ПРИСОЕДИНЕНИЕ КРЫМА.
РАЗДЕЛ ПОЛЬШИ. КОНЧИНА
Екатерина II свято верила в силу образования и просвещения. В июле 1782 г. она говорила А.В. Храповицкому: «В 60 лет все расколы исчезнут; коль скоро заведутся и утвердятся школы, то невежество истребится само собою: тут насилия не надобно»1. Вместе с тем, грамотные и образованные люди требовались не только как оплот искоренения невежества (а отсюда подразумевалось и процветание государства) и обслуживания элиты, но и для удовлетворения растущего спроса во всех звеньях центрального и местного административного аппарата, в торговых и промышленных заведениях, даже в дворянских вотчинах, а также общего развития науки и культуры.
В конце XVIII в. в России существовало пять кадетных корпусов вместо одного в первой половине столетия. В 1792 г. на базе Морской академии открылся Морской шляхетный корпус. В 1762 г. Инженерная и Артиллерийская школа была преобразована в Артиллерийский и Инженерный шляхетные кадетский корпуса. Их выпускники направлялись во все сферы административной, гражданской, военной и придворной службы, чем дворянство еще более упрочило свое положение в стране. Главной задачей Шляхетского корпуса была подготовка офицеров (учащиеся старше 20 лет овладевшие семью предметами выпускались поручиками, пятью − подпоручиками), но и это не являлось обязательностью для всех. Если учащийся проявлял «природную склонность» к какому-либо предмету (музыке, танцам, географии, истории, риторики и иностранным языкам – то, что было в программе обучения), он, например, в Сухопутном шляхетном корпусе, мог вообще не изучать «к военному мастерству потребных наук», а целиком сосредоточиться на овладении избранной дисциплиной, затем, по выпуску, относительно изучавшегося предмета, определится на гражданскую службу.
Обнаружив в русском человеке преобладание давно отсталых взглядов и понятий, Екатерина задумала по-своему повлиять на его сознание. В отличие от Петра I, которому нужен был, прежде всего, профессионал, она решила заняться моральным воспитанием подрастающего поколения, совместив это с его образованием. В педагогической инструкции Екатерины Салтыкову настойчиво проводится мысль: «Когда добродетели и добронравие вкоренятся в душах детей, все прочее придет ко времени»2. Еще до своего воцарения Екатерина скептически относилась к домашнему воспитанию дворянской молодежи: «Домашнее воспитание, − пишет она в своем дневнике, − пока лишь мутный ручей. Когда станет он потоком?»3
Придя к власти, Екатерина с близким ей по духу человеком, Бецким, задумала вырастить в России новых людей – образованных и порядочных членов общества, людей, которым чужды грубость и невежество, нетерпимость и корыстолюбие, праздность и жестокость – словом, таких непохожих на многих их современников. Достичь этого, по мнению авторов, можно было только с помощью искусственных питомников, в закрытых воспитательно-образовательных учреждений, ограждающих своих подданных от влияния порочного мира. Образование нужно было начинать в 5-6-летнем возрасте и заканчивать в 18-20-летнем, и учить детей всех сословий. Предполагалось, что новые люди вырастут, создадут свои семьи и превратятся в «новых отцов и матерей, которые могли бы детям своим те же прямыя и основательныя воспитания правила в сердце вселить, какия получали они сами, и от них дети предали бы паки своим детям, и так следуя из родов в роды в будущие века»4 − писал в своем докладе Бецкой.
Другими словами Бецкой с Екатериной хотели вывести новую породу людей способом, который впоследствии, с высоты современных дней, будет назван лысенковщина, т. е. изменение содержания без непосредственного вмешательства из вне, по принципу саморазвития, когда система сама подстраивается и видоизменяется под изменившуюся среду, которая выступает первичным толчком к изменению, в данном случае это ограждение от пагубного влияния и культурное насаждение высокой морали, а затем ожидания передачи этого последующим поколениям и потому входившее в форму саморазвития оставшихся или привитых положительных качеств культуры, а вместе с ней взглядов и характера человека (или физиологии у растений и животных). То есть, идет вселенский спор, в примитивной форме который можно выразить так: мистики утверждают, что, например, картина, театр повышают культуру и духовность человека; Бог, через принцип благословения, говорит иное, – картина и культура появляются вследствие благословения, т. е. духовности человека, – а вызванные гуманистическим энтузиазмом, нацеленный на гармонию природы и в целом закон, а также любой иной религии не исповедавшую милость Бога через Его спасение, временные колебания не идут в саморазвивающийся рост, они гасятся вследствие фундаментальной апатичности, покойственности закона, или, поднимают волну реакционной темноты вследствие эгоистичности закона. Поэтому желание Екатерины II реформировать общество старыми путями – обучаемостью, было осуществлением в большей степени мистических принципов познания мира и, соответственно, приведения общества к природе ограниченности, поэтому способствовало лишь появлению вычислительной лаборатории мозга нации, осуществления принципов счетной машины гармонии (где 2 × 2 всегда равно 4) – самоизменения культуры общества (или – ее изменение от обожествления программы обучения): дух родительного эволюционизма уже находил себе поклонников, и особенно в верхах власти, постепенно окутывая Россию, что, в свою очередь, еще больше способствовали либеральные реформы, приведшие к расцвету в стране масонства, либерального по духу ко всем религиям, ко всем мистикам, ко всем атеистам вместе взятым…
В новом воспитательном процессе, по мнению его авторов, не должно было быть физических наказаний, лишь наставничество и положительные примеры. Образование должно было включать в себя науки, изящные искусства и физическое воспитание. Кроме того, нужно было развивать в детях склонность к трудолюбию и милосердию.
Первое воспитательное училище было устроено при Академии художеств, принимали туда мальчиков пяти-шести лет, как правило, небогатых и незнатных, но с художественными способностями. Сначала дети учились по общеобразовательным дисциплинам, а затем в специальных классах академии.
В сентябре 1763 г. вышел манифест об учреждении Императорского воспитательного дома в Москве – благотворительного закрытого учебно-воспитательного учреждения для сирот, подкидышей и беспризорников (по замыслу Бецкого, дети туда должны были поступать не старше чем в двухлетнем возрасте). Воспитательный дом строился на частные пожертвования, в том числе самой императрицы (она передала в фонд 100 тыс. руб. и еще обязалась ежегодно отчислять по 50 тыс.) и самого Бецкого. Еще одним щедрым жертвователем Воспитательного дома в Москве был эксцентричный миллионер Прокофий Акинфиевич Демидов, известнейший в свое время благотворитель. Вскоре при Воспитательном доме в Москве был организован роддом, женщинам, обратившимся туда за помощью, гарантировалась полная конфиденциальность. В 1770 г. по инициативе Бецкого такой же воспитательный дом был создан в Санкт-Петербурге.
В 1764 г. Бецкой стал инициатором самого известного своего проекта – Воспитательного общества благородных девиц при Воскресенском Новодевичьем Смольном монастыре (позже он получил название Смольного института Благородных девиц), первого женского образовательного учреждения России. Первыми смолянками стали около 200 девочек от 6 до 18 лет из, как сказали бы сегодня, неблагополучных дворянских семейств. Девочки росли в условиях жесткой дисциплины, приучались к труду, получали всестороннее образование – и в науках, и в искусстве, а лучшие ученицы при выпуске определялись на придворную службу.
Через полгода появляется устав воспитательного училища при Академии Художеств, в следующем году по образу последнего создано воспитательное отделение при Академии наук. В этом же 1765 г. при Воспитательном обществе благородных девиц открывается и утверждается устав училища для девочек мещанского звания. В мещанском училище обучались 200 дочерей солдат и унтер-офицеров гвардии, придворных служителей, мещан и купцов. В их образовании больше делался упор на предметы «домоводства», т. к. они должны были уметь прислуживать аристократии и чинов высшей бюрократии.
В сентябре 1766 г. появляется новый устав сухопутного шляхетского корпуса, в августе 1767 г. – генеральный план Московского воспитательного дома. Школы носили общеобразовательный характер. Они были резко сословные. Организуя первые школы, Екатерина выступала энергичной защитницей женского образования: для той поры образование девушки всецело оставалось в пределах семьи. Публицист князь М.М. Щербатов писал, что из тех же «смолянок» «ни ученых, ни благородных девиц не вышло, как толико, поелику природа их сим снабдила; и воспитание более состояло играть комедии, нежели сердце, нравы и разум исправлять»5, оставаясь той же «породы», что и их родители. Вместе с тем, обучение смолянок танцам, музыке и другим хорошим манерам благотворно влияло на смягчение их нравов.
Параллельно с этой деятельностью шла иная разработка – «Генеральный план гимназий, или государственных училищ», представленный в конце 1766 г. Все гимназии, как и первые школы, планировались быть строго закрытыми, но иметь различные типы: 1) училища для ученых людей, 2) военные 3) гражданские 4) купеческие. Все школы прикреплялись к непосредственному заведыванию над ними духовенства и местных магистратов. Содержание школ падало на местных жителей, которые за каждого ученика ежегодно вносили «не больше полтины». Обучение в них должно быть обязательным, неисполняющие же родители подлежали высокому штрафу. Школы предназначались для детей мещан и ремесленников. Работы «Комиссии об училищах и призрения требующих» остались незаконченными.