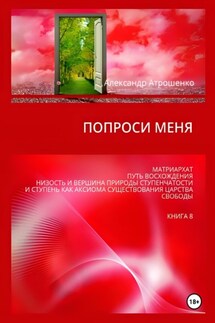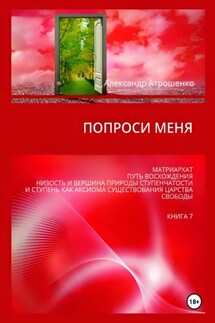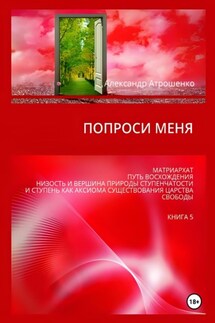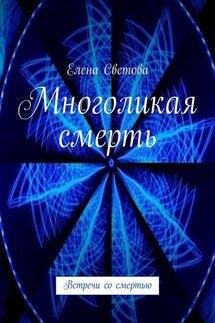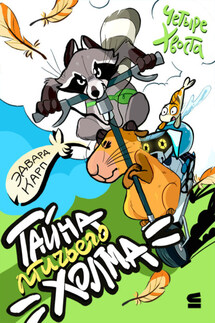Попроси меня. Т. V - страница 19
Учение молокан утверждает, что православная церковь отошла от заповедей И. Христа, и, что истинная Христова Церковь существовала только четыре века, пока Вселенские соборы и учителя церкви произвольным толкованием Библии не извратили Христово учение и не смешали его с язычеством. Учение утверждает, что истинную Христову Церковь составляют только духовные христиане, которые не приемлют ни преданий, ни постановлений Соборных, ни писаний церковных учителей, а исповедуют лишь то, чему учит Библия.
Молокане призывали стремиться к достижению нравственного совершенства, поклоняться только Духу Божьему, ибо Бог есть Дух, призывали не выполнять законов, противоречащих Слову Божьему, особенно избегать рабства, войны, военной службы и всего того, что создает насилие над человеком. Они не признавали святых, не имели церковной иерархии, клира, не употребляли в пищу свинину и спиртное. Основатели молоканства остались неизвестными. Распространителем ее в среде крестьянства, а затем мещанства и купечества, стал Семен Уклеин из Тамбовской губернии. Оттуда молоканство быстро распространилось в Саратовскую, Воронежскую, Пензенскую, Астраханскую и др. губернии. Таких верующих первоначально именовали иконоборцами. Впоследствии их стали называть молоканами за то, что они признавали только Библию, ссылаясь на ее метафору «духовного молока» (1 Петра 2: 2), нарушали требования православной церкви во время постов, употребляли молоко, как наиболее доступный крестьянам продукт питания.
В XVIII в. ростки просвещения в России естественным образом стали прорастать. Появились такие ученые, как М.В. Ломоносов, В.Н. Татищев, М.М. Щербатов, И.Н. Болтин и др., которые из них в своих наблюдениях начали приоткрывать законы устройства мира, на что, с одной стороны, церковь сразу посмотрела предосудительно, видя в этом для себя большую озабоченность, поскольку факты и выводы наблюдений часто противоречили ранее бытовавшим религиозным мировоззрениям, с другой, и ранее не будучи сильно религиозны русские мыслители-ученые становились еще более консервативны во взглядах относительно религии, тем более отечественной, все более становившаяся для них символом невежества. Заражая своим отношением и взглядами на религию окружавших их людей, те, в свою очередь, видя пример грамотного, просвещенного, всеми уважаемого человека, начинали блуждать между православным суеверием, переходящее в мистерию, и прельщающий слух терминами зарождающейся науки.
Екатерине были близки взгляды Вольтера, т. е. она не принимала грубый материализм, но верила в сверхъестественные силы, совмещала материализм с мистерией. Все это она подводила под православие, в котором более интересовалась мистическими сторонами. Вообще, даже немного грамотный народ в России больше увлекала мистика и наука, как своеобразная мистическая истина вещей, простолюдины же оставались верны своему церковному, перемешенному с языческим суеверием миру. Сама Екатерина удивлялась, несмотря на ее огромную работу по просвещению общества, видя охлаждение людей друг к другу, предававшие публичному позору личность, которая «добродетелей ищет в долгих молитвах… наблюдает строго дни праздничные; к обедни всякий день ездит; свечи перед праздником всегда ставит; мясо по постам не ест»27 (из комедии императрицы Екатерины II «О время!»)
В это время черту русского просвещенного сознания направленное на мистерию ярко демонстрирует известный поэт Г.Р. Державин (1743-1816) в своей оде «Бог». Поэтический дар художника передает непосредственное восприятие мира общества своего круга. Вся в то время спорная особенность этого произведения состоит в непривычном, научнопродвинутом взгляде на бытие. Многое в его выражении даже сейчас умно и прогрессивно, точно так же, как и во взглядах Д. Бруно, но стоит помнить, что этот прогресс был достигнут заигрыванием с мистикой, ее философией. У ревнителей православия ода вызвала протесты, но большинству образованным современникам произведение Державина не могло не показаться гениальным, так, что друг А.С. Пушкина В.К. Кюхельбекер поэт, декабрист, позже отметил у себя в дневнике: «У Державина инде встречаются мысли столь глубокие, что приходишь в искушение спросить: понял ли сам он вполне, что сказал!»