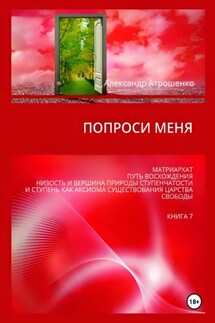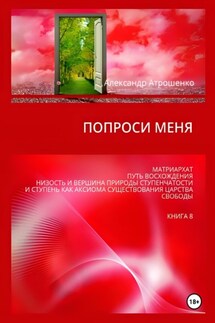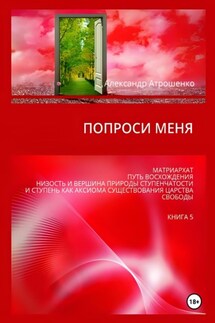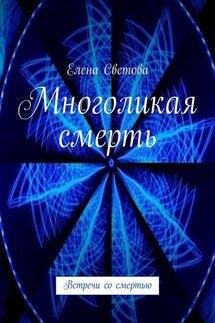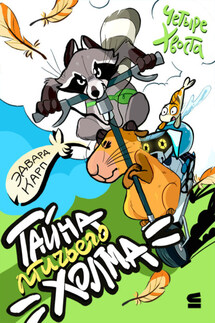Попроси меня. Т. V - страница 20
P.S. Сознание образованного русского общества тянуло дальше, к постижению тайн мироздания, поэтому увлечение «научной» мистикой было ответом на невежественность своей церкви и продолжением той мистики, которая находилась внутри нее. Ожидали большего, втягивались дальше в надежде открыть что-либо необычайное, полезное, благословение «Неизвестностью», невиданные источники «Силы Света», и, в конечном итоге, не найдя ни чего благодатного за пределами сознания, в «тонком» мире, «спустились» на землю, но не отступили, как неотступно от своего православие, и, наконец, в продолжение общей тенденции нашли-таки «настоящий» источник мудрости и благословения в соединении земного и мистического, – мистическую философию – благодатность в полной самостоятельности, в полном отторжении Бога…
Вступив на престол, Екатерина II торжественно заявила – «самовластие, не обузданное добрыми человеколюбивыми качествами в государе, владеющим самодержавно, есть такое зло, которое многим пагубным следствием непосредственной бывает причиной». «Слова не составляют вещи подлежащей преступлению»30 − декларативно афишируется в первое время, что запрещение даже «очень язвительных» сочинений ничего иного не произведет, как «притеснение и угнетение», усилит невежество, отнимет охоту писать.
Однако сама цензура не была ликвидирована, но получила следующее задание: «Слышно, что в академии наук продаются такия книги, которыя против закона, добраго нрава, нас самих и российской нации… Надлежит приказать наикрепчайшим образом академии наук иметь смотрение, дабы в ея книжной лавке такие непорядки не происходили, а прочим книготорговцам приказать ежегодно реестры посылать в академию наук и университет московский, какие книги они намерены выписывать, а оным местам вычернивать в тех реестрах такия книги, которыя против закона, добраго нрава и нас»31. Уже на втором году царствования издается указ о запрещении продавать «Эмилия» Руссо, Мемории Петра III и много других подобных книг.
В 1769 г. Екатерина приступила к изданию журнала «Всякая всячина», намереваясь воспитать читателей, руководя ими. Развитие литературной и журнальной деятельности в России вынуждало императрицу отдавать много времени цензуре. Функцию цензоров исполняли различные чиновники, но высшим цензором оставалась сама императрица.