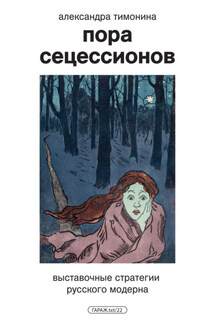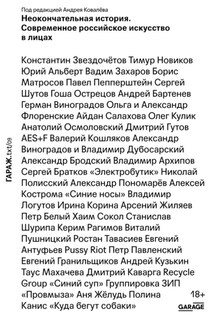Пора Сецессионов. Выставочные стратегии русского модерна - страница 26
В этот период Дягилев неустанно искал новые идеи, закладывая основы для будущих инициатив. Описывая Бенуа свои амбициозные планы по учреждению нового художественного объединения, он делал упор на выставочный формат как основу его деятельности и говорил о том, что будет лично заниматься составом экспозиций:
…Я учреждаю свое новое передовое общество. Первый год выставка будет устроена от моего личного имени, причем не только каждый художник, но и каждая картина будет отобрана мною[130].
Этот же подход Дягилева впоследствии станет и причиной распада общества: немало коллег критиковали его за авторитарный подход к работе. Однако во многом именно авторский метод в составлении экспозиции и развеске сделал эти инициативы предшественниками современных выставочных проектов, где индивидуальный вкус становится главным критерием.
Дягилев говорил и о том, что и выставка, и новый коллектив будут полезны непосредственно участникам, а не некой организации с административной рутиной, что, безусловно, делало этот проект привлекательным для художников. Когда Дягилев всерьез принялся за составление «Выставки русских и финляндских художников» (1898), большинство приглашенных авторов действительно представило свои работы. Одним из условий, которые этому способствовали, была прямая выгода для экспонентов, состоявшая в возможности показать свои произведения и найти новых покупателей, избегая – насколько это возможно – бюрократических трудностей и членских взносов.
Сохранившаяся документация, относящаяся к мюнхенской версии этой значимой выставки, крайне скудна – в особенности в отношении ее последующего маршрута. Исследователям, увы, неизвестна ни одна из версий каталога. Однако, если итерации выставки в Дюссельдорфе, Кёльне и Берлине в действительности могли не иметь такового, мюнхенская экспозиция, скорее всего, сопровождалась хотя бы брошюрой для зала. У организаторов имелась возможность публиковать каталоги к каждой выставке объединения и печатать в них многочисленные репродукции, наряду с рекламой. Материалы о ней ограничиваются победоносным заявлением Дягилева в «Новом времени»[131], весьма обширной статьей в Kunst für Alle[132] и несколькими другими незначительными откликами. В этой связи приведем краткую характеристику петербургской версии выставки, которая, несмотря на то что в Германию попала лишь часть работ (около 120 произведений из 295 работ),[133] остается вместе с материалами прессы, воспоминаниями и перепиской одним из немногих достоверных источников.
В первом своем петербургском варианте выставка была разделена на три относительно равные части, состоявшие из работ финских художников, петербуржцев и москвичей, поэтому можно сказать, что космополитичный подход характеризовал выставку как с точки зрения изначального состава участников, так и с позиций маршрута. В ее центре по-прежнему лежала концепция «национальной школы», однако она понималась расширительно по сравнению с идеями предшествовавшего поколения и была сформулирована с учетом международного контекста, в котором новая «школа» должна была занять свое место наравне с остальными. Выбор в пользу финского искусства как пандана также обусловлен подобными стремлениями, поскольку ряд финских художников уже получили широкое признание на международных выставках в Париже, Мюнхене или Берлине[134]. Всего в выставке приняли участие 21 российский и 10 финских художников, они представили в общей сложности около 300 работ. Как подмечает Боулт, выставка «была скорее русской, чем финской, и даже больше московской, чем петербургской», что отражало «растущую убежденность организаторов в достоинствах нового московского искусства»