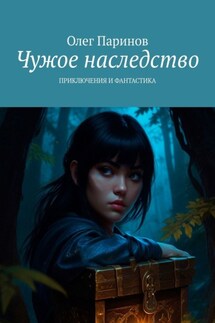«Порог толерантности». Идеология и практика нового расизма - страница 21
Правда, для малочисленных коренных народов имперский подход по-прежнему представляется наиболее опасным. Например, по мнению лидеров индейцев чиппева, «под расизмом понимаются любые формы общения, действия или поведения, намеренные или нечаянные, которые отрицают признание, выгоду, право на доступ или просто отменяют или умаляют конституционно признанные права и свободы любого человека или общины на основе их принадлежности или предполагаемой принадлежности к какой-либо расовой, этнической или культурной группе»[201].
Нетрудно заметить, что определенное место в своей схеме Вьевьорка отводит этническому (культурному) фундаментализму независимо от его связи с доминирующим большинством или этническими меньшинствами. В отечественной науке понимание потенциальной связи этнического фундаментализма с расизмом пришло еще в советские годы, когда видный советский американист А. В. Ефимов обращал внимание на «этническое качество биологической категории “раса”» и призывал изучать условия, в которых «раса приобретает социальное качество»[202]. Но если в советское время это звучало как теоретическая абстракция и не привлекло внимания специалистов, то в современной России названное явление получило жгучую актуальность. И не случайно известный российский этнолог В. А. Тишков считает этнонационализм «формой расизма в России»[203]. По определению философа В. С. Малахова, имеющего в виду российскую действительность, «расизм – это установление отношений зависимости между социальным положением некоторой группы и культурными характеристиками этой группы»[204].
Сегодня становится ясно, что в России «раса» является прежде всего культурной конструкцией, о чем ярко свидетельствует бытовое понятие «черные». Как не без оснований отмечает американская исследовательница, в России «нация» и «национальность» служат заменой понятия «раса»[205]. Действительно, в бывшем СССР и в современной России этничность обладала теми самыми свойствами, которые американские социологи связывают с расой: она очень часто навязывалась с помощью созданных чиновниками и учеными классификаций, являлась продуктом современного научного «изобретения», имела прямое отношение к власти и доступу к тем или иным ресурсам, включала понятие об ущербности и прямо или косвенно культивировала представление о своей врожденности, «естественности»[206].
Определенный интерес для нашей темы представляет подход польского социолога М. Чижевского, проанализировавшего происходившее за последние 15–20 лет в Германии и Польше становление праворадикального движения, направленного против «иностранцев». Он проводит различия между «социологическим» подходом и подходом, делающим акцент на «расизме». Если второй исходит из наличия внутренних расистских ориентаций, побуждающих к нападениям на иностранцев, то первый делает акцент на социальных процессах, изначально вовсе не имевших отношения к расизму или ксенофобии. Среди социологических факторов он называет модернизацию в ФРГ и репрессивную социополитическую структуру в ГДР, возлагая на них ответственность за радикализацию немецкой молодежи, утратившей чувство безопасности и возлагавшей все надежды на насилие, связанное с праворадикальной идеологией. Он выделяет и два фактора, способствующие распространению расизма: расистская пропаганда, ведущаяся СМИ и способствующая развитию «повседневного расизма», а также политическая и законодательная дискриминация иммигрантов